Усадьба, растворенная в веках
Вступление
Меня не покидает ощущение, что мир катится к пропасти – войны, природные катастрофы, эпидемии… Все эти ужасы привлекают к себе внимание людей. Ужас парализует, но завораживает, не позволяет отвести взгляд. Людей не в чем обвинить, это своего рода инстинкт.
Но за глобальными проблемами мы все реже обращаем внимание на более локальные несправедливости и ошибки. Да и как можно отреагировать на известие о сносе памятника или о том, что очередной музей закрыт, когда перед этим услышал столько пугающих сообщений? Такого рода события теряются в круговороте катастроф, и истинную значимость утраты исторических памятников мы осознаем, когда становится уже слишком поздно.
Ну, канет в Лету еще пара-тройка старых особняков, что с того? Если выбирать между усадьбой, которую надо тщательно, долго реставрировать, и новым торговым центром, который возведут на ее месте за год, все ли выберут усадьбу? Через сколько лет люди забудут, что она была здесь?
Жители Москвы и других мегаполисов уже привыкли к тому, что места не хватает, и велик соблазн заменить ветхий особнячок в центре на высотку. Это самый легкий и выгодный путь. Купцы и бояре уже давно покоятся в родовых склепах, дворяне убежали заграницу от советской власти, а СССР распался, так что России просто начать все с чистого листа. С историей легко не считаться, обычно людям кажется, что ей все равно. И действительно, она не может напрямую о себе напомнить. Из-за этого людей, стоящих на страже памятников культуры, тоже становится все меньше.
И это проблема не только крупных городов, где всегда мало места. В регионах все еще хуже, потому что там нет денег на восстановление, да и специалистов общественных организаций, отстаивающих памятники, тоже слишком мало.
Вы когда-нибудь задумывались, сколько заброшенных церквей можно увидеть, по пути из одного города в соседний? Для этого даже не надо сворачивать с основной трассы, их видно издали. Поросшие мхом, травой и деревцами, лишенные окон, дверей, куполов и крестов, они стыдливо врастают в землю, сбрасывают со стен фрески пряча их от людских глаз. Пройдет еще пятьдесят, может быть, семьдесят лет, и от развалин не останется и следа. Мизерный процент из них пытаются спасти. И, если за церкви, борются, хотя бы за некоторые, то усадьбы не нужны вообще никому. Их даже не пытаются спасти. Что хуже такого бездействия? Разве что умышленное равнодушие.
Имя Дениса Васильевича Давыдова известно многим в нашей стране. Логично предположить, что память о нем берегут и поныне. Каждый юбилей Отечественной войны 1812 года, читают наизусть «Бородино» (продавая при этом участки Бородинского поля под коттеджи), вспоминают, как Денис Давыдов стал инициатором создания партизанских отрядов…
В 2012 упоминали и о том, что родовая орловская усадьба Давыдовых восстановлена.
Но это не так. Родовая усадьба стерта с лица земли, а архив, который хранили несколько поколений Давыдовых, теперь разбросан по разным городам, частично потерян. И я не могу молчать об этом.
История моей семьи тесно связана с Орловской областью – оттуда родом мой отец, там прошла значительная часть моего детства, поэтому слово «Родина», ассоциируется у меня в первую очередь именно с Орловщиной. Это край, породивший множество великих людей: писателей, поэтов, военных. С детства родители водили меня по музеям, показывали сохранившиеся усадьбы; дядя-лесник делился воспоминаниями о восстановительных работах в Денисовке (родовой усадьбе Давыдовых, которой и посвящена данная работа). История всегда была рядом, а гусары и писатели стали не просто людьми, биографию которых заставляют зубрить в школе, а хорошими знакомыми, за которых переживаешь.
Я много слышала о Денисовке, но до старших классов школы там не бывала. Отец отказывался отвозить меня туда. Когда мы все же приехали – поняла почему: вместо усадьбы, которую я себе нафантазировала, увидела груду камней, мемориальный значок и две сохранившиеся аллеи. Никакой усадьбы здесь уже не было. В этом месте не бывает никого, кроме энтузиастов-школьников, выбирающихся на субботники и пикники. Они же следят за памятником. Еще иногда забредают местные жители, чтобы скосить траву – корм для кроликов. На этом все – прекрасное некогда имение превратилось в разоренный, заброшенный и необитаемый кусок земли.
Когда решила узнать историю этого места подробнее, поняла, что про усадьбу уже никто не помнит. Все, что я нашла в личных архивах местных жителей: пару сохранившихся планов, некоторые копии документов и полустершийся рисунок усадебного дома.
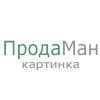
Не знаю почему не остановилась на этом, почему стала искать дальше, обшаривала архивы, общалась со старожилами, перерисовывала планы. Наверное, мне стало слишком обидно, что место, которое должны были восстановить, где собирались устроить музейный комплекс, оказалось всеми забыто.
В истории усадьбы много имен и дат. Неподготовленному читателю будет сложно разобраться, но без них нельзя понять всю ценность Денисовки. Пять поколений Давыдовых жили здесь. За это время случилось множество важных событий в истории страны и менее значительных, отразившихся на самой усадьбе, наводнений, пожаров, кризисов.
Что еще никак не давало мне покоя? То, что эта усадьба принадлежала роду Дениса Давыдова, краеведы не могли доказать десятилетиями. Многим активистам не хватало жизни на это! Разбросанный по разным местам архив, несохранившиеся документы, халатность и равнодушие – все это сыграло свою роль. И только относительно недавно Денисовка все-таки была признана родовой вотчиной тех самых Давыдовых. Но о ее истории все еще ничего не написано.
Как человек, который знает о ней, я не смогла оставаться в стороне. Если и сейчас не оставить где-то письменные свидетельства о существовании усадьбы Дениса Давыдова, память о ней исчезнет уже навсегда.
Понимаю, что первая глава работы изобилует цифрами и именами, но хочу верить, что читатель сможет преодолеть вынужденные сложности и дойти со мной до конца. Давайте вернем память о Денисовке, вспомним о том, что так долго и старательно нас заставляли забыть.
Сначала село Денисовка относилось к Ливенскому уезду, но позже его включили в состав Орловской области, спустя еще какое-то время переименовали в Давыдово.
Сегодня Орел – довольно крупный, развивающийся город, а вот Ливны больше похожи на плохо спланированную деревню с узкими петляющими улочками, к месту и не к месту раскиданными рынками, множеством автомобильных разборок и свалок, со скучными неухоженными жилыми пятиэтажками. Этот городок задыхается от пыли и потерял почти все зеленые насаждения.
В XVIII веке все было по-другому. В Ливенском уезде насчитывалось девяносто речек и рек. Было множество деревянных и каменных церквей. Работали кожевенные заводы и почти сто мельниц. Да и жителей насчитывалось более ста тысяч. Сегодня население города менее пятидесяти тысяч человек.
В Ливенском уезде семье Давыдовых принадлежало несколько сел и деревень. Собирать их начал еще дед поэта и партизана – его полный тезка Денис Васильевич Давыдов.
Считается, что именно он основал Денисовку, был первым владельцем и название дано деревне тоже в его честь. В XX веке ее переименовали в Давыдово, чтобы название напоминало обо всем роде.
Точную дату основания установить не удалось, но, по сохранившимся отрывкам переписи крестьян, можно сделать вывод, что в 1763 году Денисовка уже существовала. Также удалось выяснить, что Денис Васильевич заложил усадебный дом.
До нас дошло несколько описаний этого места, относящихся к XVIII веку: «Деревня Денисовка лежит на берегу речки Кривца на левой и по обе стороны Гранного верха. Против селения на речке стоит пруд, в нем рыба караси и лини, которая употребляется для домового обиходу» [1]
Изначально в Денисовке не было своей церкви, поэтому ее жители на службы ходили в соседнее село Покровское.
Благодаря архивным данным, можно сделать вывод: село Покровское основано раньше Денисовки, но приобретено семейством Давыдовых позднее деревни. В отличие от Денисовки, там уже существовала действующая церковь. Между населенными пунктами было налажено сообщение, ведь они располагаются без малого в двенадцати километрах друг от друга. Дороги были достаточно хороши, чтобы повозка могла проехать по ним в любое время года.
После смерти Д.В. Давыдова в 1776 году, в личных владениях у семьи остался хутор Давыдово, насчитывающий десять дворов, и деревня Денисовка, в которой было четырнадцать дворов.
К концу XVIII века Денисовка разрастается, теперь в ней уже двадцать дворов и полторы сотни крестьян.
В права наследования Денис Васильевич Давыдов вступил вскоре после завершения Отечественной войны 1812 года и освободительного заграничного похода русской армии, завершившегося взятием Парижа весной 1814 года.
На вопрос, бывал ли прежде Денис Васильевич в своей Денисовке, биографы и исследователи отвечают положительно. Да и как он мог не бывать в родовом имении?
Знакомство с Орловской деревней произошло у Давыдова в детские годы. Его родители зимовали в Москве, а на лето перебирались в деревню – подмосковное Бородино или Денисовку.
Как раз после вступления в права наследования Дениса Давыдова в истории Денисовки появляются белые пятна. Даже сам владелец испытывал трудности в определении размеров своей деревни. Документация по Ливенскому уезду пострадала в одном из пожаров, что и послужило причиной этих проблем. Но позже, благодаря содействию властей, данные восстановили, границы разметили, права наследования подтвердили.
В послевоенные годы Денис Давыдов неоднократно приезжал в Денисовку. В ту пору он мучительно переживал свое ошибочное понижение в звании, хотя и знал, что это недоразумение скоро будет устранено. Первого сентября 1815 года Денис Васильевич сообщал своему другу А. Закревскому о сельской жизни «в покое» и работе над историей войны 1812–1814 годов.
По одной из версий, именно орловской деревне посвящено четверостишие Давыдова «К моей пустыне», написанное в 1815 году:
«Пустыня тихая, сует уединенна,
Я радостьми в тебе считаю дни мои!
Но будь ты на холмах Аи, –
Тогда была бы совершенна!» [2]
Этой версии хочется верить, потому что Денисовка располагается в очень живописном месте, где есть все: река, высокие холмы, бескрайние поля, березовые рощи и липовые аллеи. Не наслаждаться жизнью в таком месте просто невозможно, как и не написать о нем.
А вот другие строки, уже точно описывающие Денисовку:
«А вот и сад большой и колокольный крест,
И церковь старая, где деда схоронили,
Где маменька лежит…
О, вид священных мест!
О, как печальны вы и вместе с тем, как милы!» [3]
Читая их, мы можем с уверенностью сказать, что здесь говорится о Денисовке, ведь сохранился склеп семьи Давыдовых, в котором похоронены дед и мать Дениса Васильевича. Но, что самое важное, можно сделать вывод о том, что во времена гусара и поэта церковь в Денисовке уже была, причем «старая». Скорее всего, она была возведена при его отце.
В своем Орловском имении Денис Давыдов не только писал, но и занимался сельскохозяйственными работами. Трудно представить, но лихой командир неуловимых «летучих отрядов» в мирные дни – задолго до графа Льва Толстого – с удовольствием пахал и косил.
Еще одной причиной посещать Денисовку – была охота. В здешних лесах водилась разнообразная дичь. Страстный охотник Давыдов вряд ли устоял перед соблазном пострелять волков, кабанов, лисиц и зайцев.
И все-таки спокойный семьянин и прилежный землевладелец, был в первую очередь лихим воякой!
В жизни генерал-майора Давыдова был любопытный эпизод, когда возможность служить недалеко от Денисовки он променял на… собственные усы. Случилось это в марте 1816 года. «Ему хотели дать, – писал Василий Давыдов, – прекрасную конно-егерскую бригаду, стоявшую около его имения в Орловской губернии, но он от неё отказался, имея в виду, что надобно будет сбрить усы, которые в то время носила только одна легкая кавалерия. Он не мог расстаться с его, по его выражению, «красою природы чернобурой в завитках», и для сохранения их предпочел жизнь в Кременчуге, в скучной должности начальника штаба 4-го пехотного корпуса…» [4]
Время службы вдалеке от Денисовки не прошло для села бесследно. Имение было запущено, на нем повисли значительные долги, которые удалось погасить только благодаря друзьям Дениса Давыдова. Они довели до сведения государя проблему Давыдова с долгами. Государь повелел их простить.
Вполне можно допустить мысль, что в 1829 году Денисовка была заложена. На полученные деньги Давыдов рассчитывал построить сахарный завод в деревне.
После смерти Дениса Васильевича для усадьбы наступают тяжелые времена, связанные с очередной путаницей в документах.
Ни сам он, ни при его жизни сыновья, не были внесены в Дворянскую родословную книгу Орловской губернии.
Денисовкой по очереди владели младшие сыновья Дениса Давыдова, Ахилл и Вадим.
Но Ахилл к управлению селом относился лишь косвенно. В те времена, вместо занятого на службе сына, распоряжалась всем его мать Софья Николаевна и старший брат Денис. Об этом свидетельствуют подписи на сохранившемся плане имения.
Благодаря этому плану мы впервые получили возможность судить об устройстве усадебного комплекса, ограниченного с севера – речкой Кривец с прудом, с запада – «лесом дровяным», с юга – дорогой, ведущей в Денисовку, и с востока – оврагом Гранным. На реке работала мельница, выше неё находились церковь и кладбище.
В верхней части усадебного комплекса, занимавшего примерно треть территории, располагались четыре постройки, хозяйственный двор и сад, пересекаемый в разных направлениях дорожками. В нижней части усадьбы размещались два каменных строения, конопляник и огороды.
Всего же Денисовка занимала восемьсот двадцать четыре гектара, не считая земли, занятой церковью и кладбищем.
Семнадцатого декабря 1868 года семейство Давыдовых наконец-то было внесено в официальный земельный реестр. Вадим Денисович, первым из семьи поэта и партизана, официально стал орловским помещиком.
Можно сказать, что годы, когда Денисовкой управлял Вадим Денисович Давыдов – стали для родовой усадьбы золотыми. На плодородных черноземных землях начали выращивать еще больше культур, территория имения увеличилась. Наконец-то была возведена каменная церковь и семейный склеп привели в должный вид. На южной окраине сада построили новый господский дом. И это было бы только началом усовершенствований… К сожалению, двадцатого мая 1881 года жизнь Вадима Давыдова закончилась.
У них с супругой было пятеро детей.
В Денисовке по очереди жили Александр Вадимович и Денис Вадимович.
Вступление
Меня не покидает ощущение, что мир катится к пропасти – войны, природные катастрофы, эпидемии… Все эти ужасы привлекают к себе внимание людей. Ужас парализует, но завораживает, не позволяет отвести взгляд. Людей не в чем обвинить, это своего рода инстинкт.
Но за глобальными проблемами мы все реже обращаем внимание на более локальные несправедливости и ошибки. Да и как можно отреагировать на известие о сносе памятника или о том, что очередной музей закрыт, когда перед этим услышал столько пугающих сообщений? Такого рода события теряются в круговороте катастроф, и истинную значимость утраты исторических памятников мы осознаем, когда становится уже слишком поздно.
Ну, канет в Лету еще пара-тройка старых особняков, что с того? Если выбирать между усадьбой, которую надо тщательно, долго реставрировать, и новым торговым центром, который возведут на ее месте за год, все ли выберут усадьбу? Через сколько лет люди забудут, что она была здесь?
Жители Москвы и других мегаполисов уже привыкли к тому, что места не хватает, и велик соблазн заменить ветхий особнячок в центре на высотку. Это самый легкий и выгодный путь. Купцы и бояре уже давно покоятся в родовых склепах, дворяне убежали заграницу от советской власти, а СССР распался, так что России просто начать все с чистого листа. С историей легко не считаться, обычно людям кажется, что ей все равно. И действительно, она не может напрямую о себе напомнить. Из-за этого людей, стоящих на страже памятников культуры, тоже становится все меньше.
И это проблема не только крупных городов, где всегда мало места. В регионах все еще хуже, потому что там нет денег на восстановление, да и специалистов общественных организаций, отстаивающих памятники, тоже слишком мало.
Вы когда-нибудь задумывались, сколько заброшенных церквей можно увидеть, по пути из одного города в соседний? Для этого даже не надо сворачивать с основной трассы, их видно издали. Поросшие мхом, травой и деревцами, лишенные окон, дверей, куполов и крестов, они стыдливо врастают в землю, сбрасывают со стен фрески пряча их от людских глаз. Пройдет еще пятьдесят, может быть, семьдесят лет, и от развалин не останется и следа. Мизерный процент из них пытаются спасти. И, если за церкви, борются, хотя бы за некоторые, то усадьбы не нужны вообще никому. Их даже не пытаются спасти. Что хуже такого бездействия? Разве что умышленное равнодушие.
Имя Дениса Васильевича Давыдова известно многим в нашей стране. Логично предположить, что память о нем берегут и поныне. Каждый юбилей Отечественной войны 1812 года, читают наизусть «Бородино» (продавая при этом участки Бородинского поля под коттеджи), вспоминают, как Денис Давыдов стал инициатором создания партизанских отрядов…
В 2012 упоминали и о том, что родовая орловская усадьба Давыдовых восстановлена.
Но это не так. Родовая усадьба стерта с лица земли, а архив, который хранили несколько поколений Давыдовых, теперь разбросан по разным городам, частично потерян. И я не могу молчать об этом.
История моей семьи тесно связана с Орловской областью – оттуда родом мой отец, там прошла значительная часть моего детства, поэтому слово «Родина», ассоциируется у меня в первую очередь именно с Орловщиной. Это край, породивший множество великих людей: писателей, поэтов, военных. С детства родители водили меня по музеям, показывали сохранившиеся усадьбы; дядя-лесник делился воспоминаниями о восстановительных работах в Денисовке (родовой усадьбе Давыдовых, которой и посвящена данная работа). История всегда была рядом, а гусары и писатели стали не просто людьми, биографию которых заставляют зубрить в школе, а хорошими знакомыми, за которых переживаешь.
Я много слышала о Денисовке, но до старших классов школы там не бывала. Отец отказывался отвозить меня туда. Когда мы все же приехали – поняла почему: вместо усадьбы, которую я себе нафантазировала, увидела груду камней, мемориальный значок и две сохранившиеся аллеи. Никакой усадьбы здесь уже не было. В этом месте не бывает никого, кроме энтузиастов-школьников, выбирающихся на субботники и пикники. Они же следят за памятником. Еще иногда забредают местные жители, чтобы скосить траву – корм для кроликов. На этом все – прекрасное некогда имение превратилось в разоренный, заброшенный и необитаемый кусок земли.
Когда решила узнать историю этого места подробнее, поняла, что про усадьбу уже никто не помнит. Все, что я нашла в личных архивах местных жителей: пару сохранившихся планов, некоторые копии документов и полустершийся рисунок усадебного дома.

Не знаю почему не остановилась на этом, почему стала искать дальше, обшаривала архивы, общалась со старожилами, перерисовывала планы. Наверное, мне стало слишком обидно, что место, которое должны были восстановить, где собирались устроить музейный комплекс, оказалось всеми забыто.
В истории усадьбы много имен и дат. Неподготовленному читателю будет сложно разобраться, но без них нельзя понять всю ценность Денисовки. Пять поколений Давыдовых жили здесь. За это время случилось множество важных событий в истории страны и менее значительных, отразившихся на самой усадьбе, наводнений, пожаров, кризисов.
Что еще никак не давало мне покоя? То, что эта усадьба принадлежала роду Дениса Давыдова, краеведы не могли доказать десятилетиями. Многим активистам не хватало жизни на это! Разбросанный по разным местам архив, несохранившиеся документы, халатность и равнодушие – все это сыграло свою роль. И только относительно недавно Денисовка все-таки была признана родовой вотчиной тех самых Давыдовых. Но о ее истории все еще ничего не написано.
Как человек, который знает о ней, я не смогла оставаться в стороне. Если и сейчас не оставить где-то письменные свидетельства о существовании усадьбы Дениса Давыдова, память о ней исчезнет уже навсегда.
Понимаю, что первая глава работы изобилует цифрами и именами, но хочу верить, что читатель сможет преодолеть вынужденные сложности и дойти со мной до конца. Давайте вернем память о Денисовке, вспомним о том, что так долго и старательно нас заставляли забыть.
Глава 1. Усадьба, растворенная в веках
Сначала село Денисовка относилось к Ливенскому уезду, но позже его включили в состав Орловской области, спустя еще какое-то время переименовали в Давыдово.
Сегодня Орел – довольно крупный, развивающийся город, а вот Ливны больше похожи на плохо спланированную деревню с узкими петляющими улочками, к месту и не к месту раскиданными рынками, множеством автомобильных разборок и свалок, со скучными неухоженными жилыми пятиэтажками. Этот городок задыхается от пыли и потерял почти все зеленые насаждения.
В XVIII веке все было по-другому. В Ливенском уезде насчитывалось девяносто речек и рек. Было множество деревянных и каменных церквей. Работали кожевенные заводы и почти сто мельниц. Да и жителей насчитывалось более ста тысяч. Сегодня население города менее пятидесяти тысяч человек.
В Ливенском уезде семье Давыдовых принадлежало несколько сел и деревень. Собирать их начал еще дед поэта и партизана – его полный тезка Денис Васильевич Давыдов.
Считается, что именно он основал Денисовку, был первым владельцем и название дано деревне тоже в его честь. В XX веке ее переименовали в Давыдово, чтобы название напоминало обо всем роде.
Точную дату основания установить не удалось, но, по сохранившимся отрывкам переписи крестьян, можно сделать вывод, что в 1763 году Денисовка уже существовала. Также удалось выяснить, что Денис Васильевич заложил усадебный дом.
До нас дошло несколько описаний этого места, относящихся к XVIII веку: «Деревня Денисовка лежит на берегу речки Кривца на левой и по обе стороны Гранного верха. Против селения на речке стоит пруд, в нем рыба караси и лини, которая употребляется для домового обиходу» [1]
Закрыть
. Российский государственный архив древних актов, ф. 1355, д. 991
Изначально в Денисовке не было своей церкви, поэтому ее жители на службы ходили в соседнее село Покровское.
Благодаря архивным данным, можно сделать вывод: село Покровское основано раньше Денисовки, но приобретено семейством Давыдовых позднее деревни. В отличие от Денисовки, там уже существовала действующая церковь. Между населенными пунктами было налажено сообщение, ведь они располагаются без малого в двенадцати километрах друг от друга. Дороги были достаточно хороши, чтобы повозка могла проехать по ним в любое время года.
После смерти Д.В. Давыдова в 1776 году, в личных владениях у семьи остался хутор Давыдово, насчитывающий десять дворов, и деревня Денисовка, в которой было четырнадцать дворов.
К концу XVIII века Денисовка разрастается, теперь в ней уже двадцать дворов и полторы сотни крестьян.
В права наследования Денис Васильевич Давыдов вступил вскоре после завершения Отечественной войны 1812 года и освободительного заграничного похода русской армии, завершившегося взятием Парижа весной 1814 года.
На вопрос, бывал ли прежде Денис Васильевич в своей Денисовке, биографы и исследователи отвечают положительно. Да и как он мог не бывать в родовом имении?
Знакомство с Орловской деревней произошло у Давыдова в детские годы. Его родители зимовали в Москве, а на лето перебирались в деревню – подмосковное Бородино или Денисовку.
Как раз после вступления в права наследования Дениса Давыдова в истории Денисовки появляются белые пятна. Даже сам владелец испытывал трудности в определении размеров своей деревни. Документация по Ливенскому уезду пострадала в одном из пожаров, что и послужило причиной этих проблем. Но позже, благодаря содействию властей, данные восстановили, границы разметили, права наследования подтвердили.
В послевоенные годы Денис Давыдов неоднократно приезжал в Денисовку. В ту пору он мучительно переживал свое ошибочное понижение в звании, хотя и знал, что это недоразумение скоро будет устранено. Первого сентября 1815 года Денис Васильевич сообщал своему другу А. Закревскому о сельской жизни «в покое» и работе над историей войны 1812–1814 годов.
По одной из версий, именно орловской деревне посвящено четверостишие Давыдова «К моей пустыне», написанное в 1815 году:
«Пустыня тихая, сует уединенна,
Я радостьми в тебе считаю дни мои!
Но будь ты на холмах Аи, –
Тогда была бы совершенна!» [2]
Закрыть
Давыдов Д., Стихотворения, Л., 1984, с. 153.
Этой версии хочется верить, потому что Денисовка располагается в очень живописном месте, где есть все: река, высокие холмы, бескрайние поля, березовые рощи и липовые аллеи. Не наслаждаться жизнью в таком месте просто невозможно, как и не написать о нем.
А вот другие строки, уже точно описывающие Денисовку:
«А вот и сад большой и колокольный крест,
И церковь старая, где деда схоронили,
Где маменька лежит…
О, вид священных мест!
О, как печальны вы и вместе с тем, как милы!» [3]
Закрыть
Давыдов Д. «Военные записки», М., 1982, с. 156-157.
Читая их, мы можем с уверенностью сказать, что здесь говорится о Денисовке, ведь сохранился склеп семьи Давыдовых, в котором похоронены дед и мать Дениса Васильевича. Но, что самое важное, можно сделать вывод о том, что во времена гусара и поэта церковь в Денисовке уже была, причем «старая». Скорее всего, она была возведена при его отце.
В своем Орловском имении Денис Давыдов не только писал, но и занимался сельскохозяйственными работами. Трудно представить, но лихой командир неуловимых «летучих отрядов» в мирные дни – задолго до графа Льва Толстого – с удовольствием пахал и косил.
Еще одной причиной посещать Денисовку – была охота. В здешних лесах водилась разнообразная дичь. Страстный охотник Давыдов вряд ли устоял перед соблазном пострелять волков, кабанов, лисиц и зайцев.
И все-таки спокойный семьянин и прилежный землевладелец, был в первую очередь лихим воякой!
В жизни генерал-майора Давыдова был любопытный эпизод, когда возможность служить недалеко от Денисовки он променял на… собственные усы. Случилось это в марте 1816 года. «Ему хотели дать, – писал Василий Давыдов, – прекрасную конно-егерскую бригаду, стоявшую около его имения в Орловской губернии, но он от неё отказался, имея в виду, что надобно будет сбрить усы, которые в то время носила только одна легкая кавалерия. Он не мог расстаться с его, по его выражению, «красою природы чернобурой в завитках», и для сохранения их предпочел жизнь в Кременчуге, в скучной должности начальника штаба 4-го пехотного корпуса…» [4]
Закрыть
.Там же с.635
Время службы вдалеке от Денисовки не прошло для села бесследно. Имение было запущено, на нем повисли значительные долги, которые удалось погасить только благодаря друзьям Дениса Давыдова. Они довели до сведения государя проблему Давыдова с долгами. Государь повелел их простить.
Вполне можно допустить мысль, что в 1829 году Денисовка была заложена. На полученные деньги Давыдов рассчитывал построить сахарный завод в деревне.
После смерти Дениса Васильевича для усадьбы наступают тяжелые времена, связанные с очередной путаницей в документах.
Ни сам он, ни при его жизни сыновья, не были внесены в Дворянскую родословную книгу Орловской губернии.
Денисовкой по очереди владели младшие сыновья Дениса Давыдова, Ахилл и Вадим.
Но Ахилл к управлению селом относился лишь косвенно. В те времена, вместо занятого на службе сына, распоряжалась всем его мать Софья Николаевна и старший брат Денис. Об этом свидетельствуют подписи на сохранившемся плане имения.
Благодаря этому плану мы впервые получили возможность судить об устройстве усадебного комплекса, ограниченного с севера – речкой Кривец с прудом, с запада – «лесом дровяным», с юга – дорогой, ведущей в Денисовку, и с востока – оврагом Гранным. На реке работала мельница, выше неё находились церковь и кладбище.
В верхней части усадебного комплекса, занимавшего примерно треть территории, располагались четыре постройки, хозяйственный двор и сад, пересекаемый в разных направлениях дорожками. В нижней части усадьбы размещались два каменных строения, конопляник и огороды.
Всего же Денисовка занимала восемьсот двадцать четыре гектара, не считая земли, занятой церковью и кладбищем.
Семнадцатого декабря 1868 года семейство Давыдовых наконец-то было внесено в официальный земельный реестр. Вадим Денисович, первым из семьи поэта и партизана, официально стал орловским помещиком.
Можно сказать, что годы, когда Денисовкой управлял Вадим Денисович Давыдов – стали для родовой усадьбы золотыми. На плодородных черноземных землях начали выращивать еще больше культур, территория имения увеличилась. Наконец-то была возведена каменная церковь и семейный склеп привели в должный вид. На южной окраине сада построили новый господский дом. И это было бы только началом усовершенствований… К сожалению, двадцатого мая 1881 года жизнь Вадима Давыдова закончилась.
У них с супругой было пятеро детей.
В Денисовке по очереди жили Александр Вадимович и Денис Вадимович.
