ЗАПОМНИТЬ КРЕМОНУ
Драма без интриги в трех действиях с прологом и эпилогом
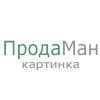
Карта Кремоны на момент сражения за город в 1702 году с портретами генералов, командовавших противостоявшими армиями. Слева принц Евгений Савойский (1663-1736 гг.), справа – маршал Вильруа (1644-1730 гг.).
Par la faveur de Bellone,
Et par un bonheur sans egal,
Nous avons conserve Cremone
Et perdu notre general.
По милости Беллоны
Нам повезло немало —
Сумев отбить Кремону,
Мы сдали генерала.
(из мемуаров принца Евгения Савойского,
слова народные)
Действующие лица:
Людовик XIV, 64* года – король Франции
Принц Евгений Савойский, 38 лет – фельдмаршал Священной Римской Империи, командующий австрийской армией в Италии, сын принца Эжена-Мориса ди Кариньяно-Савойского, графа де Суассон де Дрё, и Олимпии Манчини
Шарль-Франсуа Лотарингский, принц де Коммерси, 40 лет – друг и соратник принца Евгения, фельдмаршал Священной Римской Империи, лотарингский принц из семейства Гизов.
Франсуа де Нёвиль, герцог де Вильруа, 57 лет – маршал Франции, придворный и друг детства короля Людовика XIV, командующий французской армией в Италии
Антуан Номпар де Комон, герцог де Лозен, 70 лет – придворный Людовика XIV
Люк Жёди по прозвищу «Ворчун», 70 лет – камердинер маршала де Вильруа
Олимпия Манчини, вдовствующая графиня де Суассон де Дрё, 63 года – племянница кардинала Мазарини и мать Евгения Савойского, бежавшая из Франции в 1680 году в разгар знаменитого «Дела о ядах»
Мари-Маргарита де Коссе-Бриссак, герцогиня де Вильруа, 54 года – супруга маршала Вильруа
Франсуаза д’Обинье, маркиза де Ментенон, 66 лет – морганатическая супруга Людовика XIV
Франческа ди Стефано, мадам Дивернуа, 36 лет – камеристка Олимпии Манчини, вдова
Кристина Байоль, 23 года – мещанка из Женевы
Слуги, военные, путешественники.
* Возраст персонажей приведен на момент их появления.
ПРОЛОГ
Князья все новые кидают в битву рати,
Не думая о том, что будет в результате
Даниэль Чепко (1605-1660)
Последняя ночь января 1702 года от Рождества Христова в долине По выдалась необычайно теплой. Старинная Кремона спокойно спала в окружении мощных крепостных стен под толстым одеялом густого тумана, который в Ломбардии случается, пожалуй, чаще, чем в столице Туманного Альбиона. Туман, укутавший квадратные колокольни и высокие мраморные фасады церквей, мягкими струями стекал с черепичных крыш, заполнял узкие улочки, съедая тусклый свет редких факелов и ночные звуки.
Две тысячи французских солдат и офицеров, вставшие в Кремоне на зимние квартиры по окончании первого года итальянской кампании, которая положила начало пятнадцатилетней войне за испанское наследство, спали даже крепче добрых кремонцев, потому что им, в отличие от горожан, волноваться было не о чем – казармы исправно снабжались дровами и продовольствием. А уж где и как все это добывалось, то было головной болью городского совета.
Ближе к рассвету туман над городом сделался таким густым, что будь на улицах прохожие, они вряд ли смогли бы разглядеть друг друга и в паре шагов. А собственно, кто сказал, что прохожих не было? Вот же они, тянутся, один за другим, от дома каноника Кассоли до заложенных камнем ворот Святой Маргариты на восточной стене. В темноте тускло поблескивают кирки и лопаты – должно быть, это рабочие, которых дон Кассоли позвал, чтобы они вычистили проходящую под его домом трубу, по которой сточные воды сливаются в ров за крепостной стеной. Но почему они покидают дом каноника в столь ранний час? Неужели трудились всю ночь? И почему меж лопат то и дело мелькают длинные дула мушкетов?
Разумеется, попадись навстречу этому странному шествию какой-нибудь припозднившийся горожанин, у него возникла бы еще добрая дюжина вопросов. Вот только ответы на них он вряд ли получил бы. Да и до дома после такой встречи, скорее всего, не добрался бы. К счастью, улицы города были пусты, так что если кто и пострадал, то лишь любопытный читатель. Впрочем, подвергать читателя мучениям не годится, а потому попробуем ответить хотя бы на часть многочисленных «почему».
Вот только с чего начать?
С захвата Миланского герцогства французами весной 1701 года?
Со смерти испанского короля Карлоса II, завещавшего свою корону внучатому племяннику – принцу Филиппу Анжуйскому, по совместительству оказавшемуся внуком французского короля?
Или с далекого 1660 года, когда на маленьком острове посреди реки Бидассоа на границе Испании и Франции пышно отпраздновали королевскую свадьбу между Людовиком XIV и испанской инфантой Марией-Терезией?
Нет, эта история началась чуть раньше – сорок с лишком лет тому назад, когда первый министр Людовика, хитроумный итальянец Джулио Мазарини, вносил правки в брачный договор, составленный испанскими и французскими дипломатами.
Согласно обычаю принцесса, выходя замуж, отрекалась от своих прав на корону Испании, что и было прописано в договоре. Вычеркивать это условие кардинал Мазарини не стал, но, посовещавшись с секретарем по иностранным делам, приписал, что отречение инфанты будет иметь силу лишь после полной выплаты обещанного за ней приданого. Приданое было по-королевски щедрым – пятьсот тысяч золотых эскудо, и нищая Испания, само собой, уплатить его не могла, да и не собиралась. А молодой французский король, само собой же, этим воспользовался.
Не успел отец инфанты упокоиться в свинцовом гробу в Эскориале, как Франция тут же потребовала от Испании «наследство» инфанты в виде четырнадцати провинций, составлявших изрядную часть Испанских Нидерландов. Испания эти притязания отвергла с праведным возмущением, но вслед за толпой юристов на спорные земли хлынули многотысячные армии во главе с лучшими полководцами Франции. За наследство своей супруги Людовик азартно и весьма успешно воевал все последующие годы, отгрызая у слабеющей Испании один лакомый город в Испанских Нидерландах за другим. А когда стало ясно, что его кузен, немощный король Карлос II, отойдет в лучший мир, не оставив наследников, перед Людовиком замаячили совсем уж радужные перспективы.
Пока в далеком Мадриде умирающий Карлос никак не мог решить, кому из родственников мужеска пола оставить в наследство огромную испанскую империю, в Версале, Лондоне, Вене и Амстердаме спешно велись переговоры о том, как бы эту империю разделить. Но англичанам, австрийцам и голландцам и в голову не могло прийти, что все договоренности будут забыты, стоит лишь Людовику получить из Мадрида завещание усопшего Карлоса. Одним дрожащим росчерком пера испанский король оставил все свои владения своему племяннику – юному принцу из дома Бурбонов.
Надо отдать Людовику должное: он несколько дней размышлял над тем, принять завещание или отказаться. Многоопытный монарх хорошо понимал, что переход огромной империи под власть Бурбонов разом сделает их врагами всей Европы. Но соблазн был велик. Слишком велик! К тому же, в случае отказа бескрайние владения Испании перешли бы к австрийской родне покойного Карлоса, и новая австро-испанская империя стала бы вдвое больше предыдущей. Снова оказаться в кольце Габсбургов? О нет, все, что угодно, только не новый монстр на теле Европы! Вот так и вышло, что после долгих размышлений принц Филипп Анжуйский, семнадцатилетний внук Людовика, был объявлен испанским королем.
Англия была в бешенстве. Голландия, уже изрядно разоренная французами, от которых ее отделяла лишь узкая полоска того, что осталось от Испанских Нидерландов – в ужасе. Но больше всех разгневались австрийские Габсбурги, считавшие себя прямыми наследниками Габсбургов испанских.
Война была неизбежна.
И началась она в Италии.
Людовик умел ковать железо, пока горячо. Не прошло и пяти месяцев со смерти Карлоса II, а сорок тысяч французов под командованием маршала Катина уже вошли в Миланское герцогство и перекрыли австрийским войскам дорогу в Италию.
Однако в рукаве у австрийского императора был спрятан козырный туз – принц Евгений Савойский. По иронии судьбы, принц Ойген, как звали Евгения Савойского в Австрии, и сам был на четверть Бурбоном. Самый младший из четырех сыновей генерал-лейтенанта французской армии принца Эжена-Мориса ди Кариньяно-Савойского, графа де Суассона, он должен был стать аббатом, но мечтал о мундире и маршальском жезле. Увы, Людовик четвероюродного племянника не оценил, и принцу пришлось делать военную карьеру в армии австрийских Габсбургов.
Молодой генерал уже успел прославиться в войне с турками, и император Леопольд рискнул доверить ему итальянскую кампанию. Выбор был превосходен – Евгений быстро оттеснил французов вглубь Ломбардии, выиграл несколько сражений и заставил маршала Катина занять глухую оборону. Настолько глухую, что к концу лета Людовик XIV, крайне недовольный столь неподобающей тактикой, отозвал главнокомандующего и прислал ему на смену своего старого друга, маршала Вильруа.
Понимая, что от него ждут решительных действий, и желая сделать королю подарок к дню рождения, Вильруа тут же перешел в наступление. Увы, если под началом выдающегося полководца герцога де Люксембурга маршал сражался отважно и успешно, то самостоятельное командование у него не задалось. Первое же крупное сражение при Кьяри он проиграл и вынужден был последовать примеру Катина, обороняя занятые рубежи и довольствуясь мелкими стычками с переменным успехом.
Меж тем наступили холода, и обе армии отошли на зимние квартиры. Обосновавшись со своим штабом в Кремоне, Вильруа начал готовиться к весеннему наступлению. К нему на помощь шла вторая армия, и против такого напора имперские войска устоять просто не могли. Французам надо было всего лишь отсидеться до весны под надежной защитой крепостных стен и глубокого рва вокруг неприступного города.
Однако принц Евгений придерживался иного мнения. Ждать весну? Позволить французам дождаться подкрепления? Не на того напали!
Действие I. Италия
«Я заставлю имперских принцев танцевать ригодон
на карнавале», – заявил Вильруа, чем пробудил в нас
неудержимое желание упредить французов
и захватить их врасплох в Кремоне.
(Из мемуаров принца Евгения Савойского)
Кремона, 1 февраля 1702 г.
— Ваша светлость! Ваша светлость! Господин герцог!
Маршал де Вильруа, командующий французской армией в Италии, попытался отмахнуться от назойливого жужжания над ухом и перевернуться на другой бок, но что-то его не пускало. Держало – и даже потряхивало.
Открывать глаза мучительно не хотелось: спать маршал лег только в третьем часу ночи. Накануне вечером он вернулся в Кремону из Милана и допоздна просидел за бумагами, накопившимися за неделю его отсутствия. Камердинеру, к слову, было велено не будить маршала до восьми.
Не отрывая лица от подушки, он нехотя пробурчал:
— Жёди, это ты? Что, уже восемь?
— Четверть шестого, ваша светлость, – седой камердинер с облегчением отпустил герцогское плечо, которое он довольно бесцеремонно тряс уже добрых пять минут.
— Какого дьявола… – маршал схватил подвернувшуюся под руку подушку и уже собирался отправить ее куда подальше вместе с назойливым слугой, когда разглядел за спиной камердинера своего секретаря, маркиза де Лепренса.
— Имперцы в городе, мой маршал! – попятившись при виде метательного снаряда наизготовку, поспешно выкрикнул тот. – Кавалерия принца Евгения. В восточных казармах идет бой.
Вильруа несколько секунд непонимающе моргал, затем сонно усмехнулся, решив, что этот бред ему просто-напросто снится. Но ответной ухмылки не дождался: секретарю, застывшему с бледным от тревоги лицом, явно было не до шуток.
По мере того, как остатки сна впопыхах покидали главнокомандующего, возвращая ясную голубизну его глазам, рот его, в уголках которого обыкновенно пряталась улыбка, способная с легкостью растопить не только женские сердца, сжимался в жесткую линию. Привычный к голосам войны слух не мог обмануться: в окна герцогской спальни, выходящие во внутренний двор палаццо Маджо, реквизированного для нужд его светлости, явственно доносился глухой треск мушкетной пальбы.
Маршал тряхнул головой и отбросил пуховое одеяло.
— Имперцы? Но как? Кто пропустил? – нахмурился он, но тут же сам себя оборвал. – Впрочем, не отвечайте. Теперь это уже не важно. Жёди, сапоги и воду для умывания. Маркиз, распорядитесь седлать лошадей. Мне и…
— Я с вами, ваша светлость, – вскинулся секретарь.
— Нет, я возьму одного из моих адъютантов. А вы, Лепренс, останетесь здесь. Будете оборонять дворец от имперцев. Закроете ворота и ставни, поставите людей с мушкетами к окнам и на крышу. Справитесь, одним словом.
Не взглянув на протянутый ему халат, маршал схватил с кресла брошенный с вечера мундир, натянул его прямо на ночную сорочку и босиком прошлепал в соседний кабинет. Там он на ощупь сгреб в охапку разбросанные на столе бумаги и вернулся с ними в спальню, где в камине еще теплились угли.
— Сожгите это, – швырнув всю охапку в камин, велел он Лепренсу, выхватил у камердинера чулки и принялся натягивать их, спеша и чертыхаясь. – Дотла, чтобы ни одного клочка не осталось.
— Но это же планы весенней кампании, приказы из Парижа, депеши и… – ахнул маркиз.
— Вот именно, – Вильруа отобрал у растерявшегося секретаря свечу и поднес ее к краю сложенной вчетверо карты. Толстая бумага занималась нехотя, и он нетерпеливым жестом сунул свечу Лепренсу. – Что бы ни случилось, к принцу Евгению они попасть не должны. Займитесь.
— А ваша светлость?
— А моя светлость постарается вышвырнуть принца из города как можно скорее. Сапоги! Я же просил сапоги!
Пять минут спустя маршал де Вильруа, наспех умытый, без плаща и парика, но при шпаге, уже сбегал по лестнице во внутренний двор, где его ждали оседланные лошади. Следом бежал дежурный адъютант.
Лошади нервничали, всхрапывали и перебирали ногами. Острый запах пороха и гари, приносимый ветром, им был явно не по вкусу. С востока над крышей палаццо полыхало яркое зарево – слишком яркое для февральского рассвета, до которого, впрочем, было еще далеко. Вильруа болезненно поморщился, прислушиваясь к грохоту выстрелов и крикам – там, на восточной окраине города, погибали его люди, и первым порывом герцога было броситься им на выручку.
Тем не менее, выехав на улицу, маршал повернул коня к Пьяцца-Маджоре, главной площади города, где располагалась городская ратуша и колокольня при ней.
– Нужно ударить в набат, поднять всех наших людей, – бросил он адъютанту. – Это быстрее, чем посылать вестовых по домам, где расквартированы офицеры.
Площадь была буквально в трех кварталах от палаццо – пара минут рысью. Но едва лошади вынесли их на открытое пространство, как из густого тумана тут же загремели выстрелы. В белесой мгле проступили силуэты всадников – справа, слева, повсюду.
– Имперцы! Назад! – адъютант схватил за повод маршальскую лошадь, разворачивая ее обратно.
Следующим залпом с Вильруа сбило шляпу, но они уже неслись по гулкой мостовой, свернув в первую же боковую улочку, чтобы объехать площадь по дуге. Выстрелы и крики остались за спиной – судя по всему, сюда враги еще не добрались.
– Скачем в крепость, там полк морской пехоты и артиллерия, – маршал пришпорил лошадь в надежде обогнать невидимое вражеское войско.
Драма без интриги в трех действиях с прологом и эпилогом

Карта Кремоны на момент сражения за город в 1702 году с портретами генералов, командовавших противостоявшими армиями. Слева принц Евгений Савойский (1663-1736 гг.), справа – маршал Вильруа (1644-1730 гг.).
Par la faveur de Bellone,
Et par un bonheur sans egal,
Nous avons conserve Cremone
Et perdu notre general.
По милости Беллоны
Нам повезло немало —
Сумев отбить Кремону,
Мы сдали генерала.
(из мемуаров принца Евгения Савойского,
слова народные)
Действующие лица:
Людовик XIV, 64* года – король Франции
Принц Евгений Савойский, 38 лет – фельдмаршал Священной Римской Империи, командующий австрийской армией в Италии, сын принца Эжена-Мориса ди Кариньяно-Савойского, графа де Суассон де Дрё, и Олимпии Манчини
Шарль-Франсуа Лотарингский, принц де Коммерси, 40 лет – друг и соратник принца Евгения, фельдмаршал Священной Римской Империи, лотарингский принц из семейства Гизов.
Франсуа де Нёвиль, герцог де Вильруа, 57 лет – маршал Франции, придворный и друг детства короля Людовика XIV, командующий французской армией в Италии
Антуан Номпар де Комон, герцог де Лозен, 70 лет – придворный Людовика XIV
Люк Жёди по прозвищу «Ворчун», 70 лет – камердинер маршала де Вильруа
Олимпия Манчини, вдовствующая графиня де Суассон де Дрё, 63 года – племянница кардинала Мазарини и мать Евгения Савойского, бежавшая из Франции в 1680 году в разгар знаменитого «Дела о ядах»
Мари-Маргарита де Коссе-Бриссак, герцогиня де Вильруа, 54 года – супруга маршала Вильруа
Франсуаза д’Обинье, маркиза де Ментенон, 66 лет – морганатическая супруга Людовика XIV
Франческа ди Стефано, мадам Дивернуа, 36 лет – камеристка Олимпии Манчини, вдова
Кристина Байоль, 23 года – мещанка из Женевы
Слуги, военные, путешественники.
* Возраст персонажей приведен на момент их появления.
ПРОЛОГ
Князья все новые кидают в битву рати,
Не думая о том, что будет в результате
Даниэль Чепко (1605-1660)
Последняя ночь января 1702 года от Рождества Христова в долине По выдалась необычайно теплой. Старинная Кремона спокойно спала в окружении мощных крепостных стен под толстым одеялом густого тумана, который в Ломбардии случается, пожалуй, чаще, чем в столице Туманного Альбиона. Туман, укутавший квадратные колокольни и высокие мраморные фасады церквей, мягкими струями стекал с черепичных крыш, заполнял узкие улочки, съедая тусклый свет редких факелов и ночные звуки.
Две тысячи французских солдат и офицеров, вставшие в Кремоне на зимние квартиры по окончании первого года итальянской кампании, которая положила начало пятнадцатилетней войне за испанское наследство, спали даже крепче добрых кремонцев, потому что им, в отличие от горожан, волноваться было не о чем – казармы исправно снабжались дровами и продовольствием. А уж где и как все это добывалось, то было головной болью городского совета.
Ближе к рассвету туман над городом сделался таким густым, что будь на улицах прохожие, они вряд ли смогли бы разглядеть друг друга и в паре шагов. А собственно, кто сказал, что прохожих не было? Вот же они, тянутся, один за другим, от дома каноника Кассоли до заложенных камнем ворот Святой Маргариты на восточной стене. В темноте тускло поблескивают кирки и лопаты – должно быть, это рабочие, которых дон Кассоли позвал, чтобы они вычистили проходящую под его домом трубу, по которой сточные воды сливаются в ров за крепостной стеной. Но почему они покидают дом каноника в столь ранний час? Неужели трудились всю ночь? И почему меж лопат то и дело мелькают длинные дула мушкетов?
Разумеется, попадись навстречу этому странному шествию какой-нибудь припозднившийся горожанин, у него возникла бы еще добрая дюжина вопросов. Вот только ответы на них он вряд ли получил бы. Да и до дома после такой встречи, скорее всего, не добрался бы. К счастью, улицы города были пусты, так что если кто и пострадал, то лишь любопытный читатель. Впрочем, подвергать читателя мучениям не годится, а потому попробуем ответить хотя бы на часть многочисленных «почему».
Вот только с чего начать?
С захвата Миланского герцогства французами весной 1701 года?
Со смерти испанского короля Карлоса II, завещавшего свою корону внучатому племяннику – принцу Филиппу Анжуйскому, по совместительству оказавшемуся внуком французского короля?
Или с далекого 1660 года, когда на маленьком острове посреди реки Бидассоа на границе Испании и Франции пышно отпраздновали королевскую свадьбу между Людовиком XIV и испанской инфантой Марией-Терезией?
Нет, эта история началась чуть раньше – сорок с лишком лет тому назад, когда первый министр Людовика, хитроумный итальянец Джулио Мазарини, вносил правки в брачный договор, составленный испанскими и французскими дипломатами.
Согласно обычаю принцесса, выходя замуж, отрекалась от своих прав на корону Испании, что и было прописано в договоре. Вычеркивать это условие кардинал Мазарини не стал, но, посовещавшись с секретарем по иностранным делам, приписал, что отречение инфанты будет иметь силу лишь после полной выплаты обещанного за ней приданого. Приданое было по-королевски щедрым – пятьсот тысяч золотых эскудо, и нищая Испания, само собой, уплатить его не могла, да и не собиралась. А молодой французский король, само собой же, этим воспользовался.
Не успел отец инфанты упокоиться в свинцовом гробу в Эскориале, как Франция тут же потребовала от Испании «наследство» инфанты в виде четырнадцати провинций, составлявших изрядную часть Испанских Нидерландов. Испания эти притязания отвергла с праведным возмущением, но вслед за толпой юристов на спорные земли хлынули многотысячные армии во главе с лучшими полководцами Франции. За наследство своей супруги Людовик азартно и весьма успешно воевал все последующие годы, отгрызая у слабеющей Испании один лакомый город в Испанских Нидерландах за другим. А когда стало ясно, что его кузен, немощный король Карлос II, отойдет в лучший мир, не оставив наследников, перед Людовиком замаячили совсем уж радужные перспективы.
Пока в далеком Мадриде умирающий Карлос никак не мог решить, кому из родственников мужеска пола оставить в наследство огромную испанскую империю, в Версале, Лондоне, Вене и Амстердаме спешно велись переговоры о том, как бы эту империю разделить. Но англичанам, австрийцам и голландцам и в голову не могло прийти, что все договоренности будут забыты, стоит лишь Людовику получить из Мадрида завещание усопшего Карлоса. Одним дрожащим росчерком пера испанский король оставил все свои владения своему племяннику – юному принцу из дома Бурбонов.
Надо отдать Людовику должное: он несколько дней размышлял над тем, принять завещание или отказаться. Многоопытный монарх хорошо понимал, что переход огромной империи под власть Бурбонов разом сделает их врагами всей Европы. Но соблазн был велик. Слишком велик! К тому же, в случае отказа бескрайние владения Испании перешли бы к австрийской родне покойного Карлоса, и новая австро-испанская империя стала бы вдвое больше предыдущей. Снова оказаться в кольце Габсбургов? О нет, все, что угодно, только не новый монстр на теле Европы! Вот так и вышло, что после долгих размышлений принц Филипп Анжуйский, семнадцатилетний внук Людовика, был объявлен испанским королем.
Англия была в бешенстве. Голландия, уже изрядно разоренная французами, от которых ее отделяла лишь узкая полоска того, что осталось от Испанских Нидерландов – в ужасе. Но больше всех разгневались австрийские Габсбурги, считавшие себя прямыми наследниками Габсбургов испанских.
Война была неизбежна.
И началась она в Италии.
Людовик умел ковать железо, пока горячо. Не прошло и пяти месяцев со смерти Карлоса II, а сорок тысяч французов под командованием маршала Катина уже вошли в Миланское герцогство и перекрыли австрийским войскам дорогу в Италию.
Однако в рукаве у австрийского императора был спрятан козырный туз – принц Евгений Савойский. По иронии судьбы, принц Ойген, как звали Евгения Савойского в Австрии, и сам был на четверть Бурбоном. Самый младший из четырех сыновей генерал-лейтенанта французской армии принца Эжена-Мориса ди Кариньяно-Савойского, графа де Суассона, он должен был стать аббатом, но мечтал о мундире и маршальском жезле. Увы, Людовик четвероюродного племянника не оценил, и принцу пришлось делать военную карьеру в армии австрийских Габсбургов.
Молодой генерал уже успел прославиться в войне с турками, и император Леопольд рискнул доверить ему итальянскую кампанию. Выбор был превосходен – Евгений быстро оттеснил французов вглубь Ломбардии, выиграл несколько сражений и заставил маршала Катина занять глухую оборону. Настолько глухую, что к концу лета Людовик XIV, крайне недовольный столь неподобающей тактикой, отозвал главнокомандующего и прислал ему на смену своего старого друга, маршала Вильруа.
Понимая, что от него ждут решительных действий, и желая сделать королю подарок к дню рождения, Вильруа тут же перешел в наступление. Увы, если под началом выдающегося полководца герцога де Люксембурга маршал сражался отважно и успешно, то самостоятельное командование у него не задалось. Первое же крупное сражение при Кьяри он проиграл и вынужден был последовать примеру Катина, обороняя занятые рубежи и довольствуясь мелкими стычками с переменным успехом.
Меж тем наступили холода, и обе армии отошли на зимние квартиры. Обосновавшись со своим штабом в Кремоне, Вильруа начал готовиться к весеннему наступлению. К нему на помощь шла вторая армия, и против такого напора имперские войска устоять просто не могли. Французам надо было всего лишь отсидеться до весны под надежной защитой крепостных стен и глубокого рва вокруг неприступного города.
Однако принц Евгений придерживался иного мнения. Ждать весну? Позволить французам дождаться подкрепления? Не на того напали!
Прода от 12.09.2022, 23:30
Действие I. Италия
«Я заставлю имперских принцев танцевать ригодон
на карнавале», – заявил Вильруа, чем пробудил в нас
неудержимое желание упредить французов
и захватить их врасплох в Кремоне.
(Из мемуаров принца Евгения Савойского)
Кремона, 1 февраля 1702 г.
— Ваша светлость! Ваша светлость! Господин герцог!
Маршал де Вильруа, командующий французской армией в Италии, попытался отмахнуться от назойливого жужжания над ухом и перевернуться на другой бок, но что-то его не пускало. Держало – и даже потряхивало.
Открывать глаза мучительно не хотелось: спать маршал лег только в третьем часу ночи. Накануне вечером он вернулся в Кремону из Милана и допоздна просидел за бумагами, накопившимися за неделю его отсутствия. Камердинеру, к слову, было велено не будить маршала до восьми.
Не отрывая лица от подушки, он нехотя пробурчал:
— Жёди, это ты? Что, уже восемь?
— Четверть шестого, ваша светлость, – седой камердинер с облегчением отпустил герцогское плечо, которое он довольно бесцеремонно тряс уже добрых пять минут.
— Какого дьявола… – маршал схватил подвернувшуюся под руку подушку и уже собирался отправить ее куда подальше вместе с назойливым слугой, когда разглядел за спиной камердинера своего секретаря, маркиза де Лепренса.
— Имперцы в городе, мой маршал! – попятившись при виде метательного снаряда наизготовку, поспешно выкрикнул тот. – Кавалерия принца Евгения. В восточных казармах идет бой.
Вильруа несколько секунд непонимающе моргал, затем сонно усмехнулся, решив, что этот бред ему просто-напросто снится. Но ответной ухмылки не дождался: секретарю, застывшему с бледным от тревоги лицом, явно было не до шуток.
По мере того, как остатки сна впопыхах покидали главнокомандующего, возвращая ясную голубизну его глазам, рот его, в уголках которого обыкновенно пряталась улыбка, способная с легкостью растопить не только женские сердца, сжимался в жесткую линию. Привычный к голосам войны слух не мог обмануться: в окна герцогской спальни, выходящие во внутренний двор палаццо Маджо, реквизированного для нужд его светлости, явственно доносился глухой треск мушкетной пальбы.
Маршал тряхнул головой и отбросил пуховое одеяло.
— Имперцы? Но как? Кто пропустил? – нахмурился он, но тут же сам себя оборвал. – Впрочем, не отвечайте. Теперь это уже не важно. Жёди, сапоги и воду для умывания. Маркиз, распорядитесь седлать лошадей. Мне и…
— Я с вами, ваша светлость, – вскинулся секретарь.
— Нет, я возьму одного из моих адъютантов. А вы, Лепренс, останетесь здесь. Будете оборонять дворец от имперцев. Закроете ворота и ставни, поставите людей с мушкетами к окнам и на крышу. Справитесь, одним словом.
Не взглянув на протянутый ему халат, маршал схватил с кресла брошенный с вечера мундир, натянул его прямо на ночную сорочку и босиком прошлепал в соседний кабинет. Там он на ощупь сгреб в охапку разбросанные на столе бумаги и вернулся с ними в спальню, где в камине еще теплились угли.
— Сожгите это, – швырнув всю охапку в камин, велел он Лепренсу, выхватил у камердинера чулки и принялся натягивать их, спеша и чертыхаясь. – Дотла, чтобы ни одного клочка не осталось.
— Но это же планы весенней кампании, приказы из Парижа, депеши и… – ахнул маркиз.
— Вот именно, – Вильруа отобрал у растерявшегося секретаря свечу и поднес ее к краю сложенной вчетверо карты. Толстая бумага занималась нехотя, и он нетерпеливым жестом сунул свечу Лепренсу. – Что бы ни случилось, к принцу Евгению они попасть не должны. Займитесь.
— А ваша светлость?
— А моя светлость постарается вышвырнуть принца из города как можно скорее. Сапоги! Я же просил сапоги!
Пять минут спустя маршал де Вильруа, наспех умытый, без плаща и парика, но при шпаге, уже сбегал по лестнице во внутренний двор, где его ждали оседланные лошади. Следом бежал дежурный адъютант.
Лошади нервничали, всхрапывали и перебирали ногами. Острый запах пороха и гари, приносимый ветром, им был явно не по вкусу. С востока над крышей палаццо полыхало яркое зарево – слишком яркое для февральского рассвета, до которого, впрочем, было еще далеко. Вильруа болезненно поморщился, прислушиваясь к грохоту выстрелов и крикам – там, на восточной окраине города, погибали его люди, и первым порывом герцога было броситься им на выручку.
Тем не менее, выехав на улицу, маршал повернул коня к Пьяцца-Маджоре, главной площади города, где располагалась городская ратуша и колокольня при ней.
– Нужно ударить в набат, поднять всех наших людей, – бросил он адъютанту. – Это быстрее, чем посылать вестовых по домам, где расквартированы офицеры.
Площадь была буквально в трех кварталах от палаццо – пара минут рысью. Но едва лошади вынесли их на открытое пространство, как из густого тумана тут же загремели выстрелы. В белесой мгле проступили силуэты всадников – справа, слева, повсюду.
– Имперцы! Назад! – адъютант схватил за повод маршальскую лошадь, разворачивая ее обратно.
Следующим залпом с Вильруа сбило шляпу, но они уже неслись по гулкой мостовой, свернув в первую же боковую улочку, чтобы объехать площадь по дуге. Выстрелы и крики остались за спиной – судя по всему, сюда враги еще не добрались.
– Скачем в крепость, там полк морской пехоты и артиллерия, – маршал пришпорил лошадь в надежде обогнать невидимое вражеское войско.
