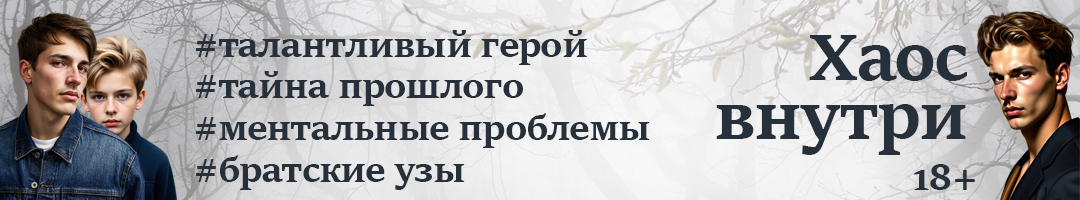Саня с Лёхой показали мне на карте, какие квадраты обследовали, сколько и какой живности определили. Рассказали, что следов браконьеров не обнаружили – северная часть заповедника была наиболее удалена от населённых пунктов. Потом, переглянувшись, обратились ко мне:
– Петь, нам бы втроём завтра потропить: тяжело вдвоём-то.
Я опешил:
– Вы что, мужики, неужели решили, что мне здесь нравится сидеть?! Да и Танька, по-моему, в полном порядке. Завтра же иду с вами!
Танька, подняв глаза, часто-часто заморгала:
– Да-да-да, ребята, конечно. Я приберусь и поесть приготовлю, и печку буду топить, и дровишек принесу. А у тебя, Саша, вон штаны порвались, снимай, я зашью!
– Добро. Только от избушки не дальше, чем на десять метров! И смотри, не запали её!
6
Оставшиеся дни я с удовольствием изучал заповедную тайгу, помогал, чем мог, молодому и бывалому СОПовцам, добросовестно топтал глубокий снег.
Сказать, что Саня Герасимов молодец – значит, не сказать ничего. Я не встречал людей, которые бы так разбирались в шарадах многочисленных звериных следов. «Так, это – тот самый русак-двухлетка. След вчерашний, его я помню и по другим квадратам. Ишь, разбегался! Ага, лисица, след совсем свежий, видимо, нас учуяла, только что ушла. Ну, это, похоже, та же волчья тропа, что идёт на север». И так далее. Где-то он снимал с коры еле заметный клочок шерсти и, помяв его и понюхав, называл хозяина. Где-то, достав спичку, клал её на снег между отпечатками лап. И всё вполголоса рассказывал и рассказывал Лёхе об обитателях тайги, тот кивал, тоже щупал кусочки шерсти, ковырял кору на деревьях, определял по компасу направление следа. Затем доставалась карта, что-то сверялось, что-то записывалось карандашом на бумагу в планшете.
Я внимал этим премудростям вполуха. Понимал лишь главное: существуют специальные методики определения численности разных видов животных по паутине их следов. Я и раньше с восхищением читал в расписании занятий названия изучаемых «охранниками» дисциплин: лесоведение, луговедение, охотоведение и другие экзотические предметы. Но тут отчётливо понял: всё это – не просто так.
За четыре дня мы истоптали изучаемый сектор заповедника вдоль и поперёк, даже заглянули на соседний – вдруг кого-то из наших увидим. Или браконьеров. Но никого не встретили. А девочка наша старалась изо всех сил: в избушке всё, насколько это было возможно, блестело, к нашему приходу всегда был готов ужин, печка протоплена, дровишки аккуратно уложены. Ну, и ко мне она стала проявлять подчеркнутую учтивость и доброжелательность – учение пошло впрок.
За день до нашего возвращения в Галашки Саня устроил, как принято говорить у туристов, днёвку – что-то нужно было починить, посмотреть, да и просто отдохнуть перед обратным марш-броском. Ещё он внимательно наблюдал за Танькой, что было и заметно, и понятно.
И вот ранним утречком мы, позавтракав и поклонившись гостеприимной избушке, двинули назад. Бог послал погожий солнечный денёк, осадков за весь период нашего пребывания не было, рюкзаки заметно похудели, поэтому по своей же лыжне добрались до Галашек очень резво. Танька, слава Богу, не подкачала. И лишь когда мелькнули между ёлок впереди первые деревенские избушки, Герасимов шумно выдохнул: «Фу-у-у!» Затем, нагнувшись ко мне, тихо, но зловеще прохрипел: «Ох, и выдам я Ленке Рощиной: это она мне навязала Татьяну!..»
В Галашках, в одной из изб разместилась контора Сулемского лесничества, к которому относится Висимский заповедник. Здесь мы встретились с остальными СОПовцами. Ни у кого не случилось никаких происшествий, все были рады. На грузовиках добрались к вечеру до Висима. Ввалились к Ляйсан голодные, уставшие, но счастливые. Выяснения отношений Герасимова с Рощиной я не видел, но про себя отметил, что они принципиально стараются не замечать друг друга. Танька растерянно посматривала то на одного, то на другого. Ладно, думаю, история окончена – сами промеж себя разберутся. Только однажды, во время ужина у Ляйсан, Саня перед всеми громогласно, со смехом изрёк: «Ну, Таня, расскажи, как медведей за уши ловила!» Юная «медвежатница», надув губки, опустила глаза. «Штатная» журналистка дружины Кащеева что-то лихорадочно переписывала из блокнота в блокнот.
Накануне отъезда Герасимов и руководители групп сдали в контору все данные обследований территорий. Утром, получив расчёт в кассе, мы двинули в Нижний Тагил, а оттуда – в Свердловск. На следующий же день в УЛТИ начиналась Всесоюзная студенческая конференция дружин охраны природы. Мне любопытно было глянуть на студентов – энтузиастов своего дела. И я не обманулся в ожидании абсолютного позитива: сотни светлых, умных лиц с увлечёнными искрящимися глазами; делегаты (многие были знакомы друг с другом) радовались встрече. Честное слово, мне стало так хорошо, что захотелось их обнять – каждого поодиночке и всех вместе. Думалось, что защита природы в нашей стране в надежных руках.
Были и печальные минуты. Вспоминали тех, кого нет рядом. По традиции, конференция началась минутой молчания в память о студентах – защитниках природы, погибших от рук браконьеров при исполнении своей добровольной миссии…
Где сейчас Александр Герасимов, я не знаю. Последний раз я видел его в очень популярной некогда программе «Взгляд». Шёл рассказ об одном заповеднике, которым он руководил, и где навёл образцовый порядок.
А Таньку я вскоре после возвращения встретил в нашей общаге. Она буквально затащила меня в гости, представив соседкам по комнате, таким же зеленым первокурсницам, «большим другом». Ладно, думаю, на здоровье. За кружкой чая я подробно рассказал о большом вкладе Татьяны в дело защиты уральской природы, не скупясь на комплименты в её адрес. Она, сияя, глядела сверху вниз на раскрывших рот подружек. И только уходя, я вполголоса сказал ей: «Ну, а уж как ты «ловила медведей за уши», расскажешь им сама». Она, привычно опустив глазки, промолчала. На том и простились. Больше я с Танькой никогда не встречался. По отрывочным сведениям узнал, что на пятом курсе она вышла замуж за Лёху – я порадовался. Дай Бог, чтобы всё у них было хорошо. Чтобы добрым словом вспоминали «наше зимовье». Но удалось ли ей тогда попасть в Байкальский заповедник, я так и не узнал.
Воспоминание седьмое.
Как я защищался
1
К науке нас начинали приучать с младших курсов. Помню, завкафедрой Наумова Римма Павловна ещё на первом курсе подошла к нам с Ширшовым: «Ребята, вы хотите заниматься наукой». Эта фраза, вроде, должна была прозвучать вопросом. Но она прозвучала, как утверждение, почти указание. Мы промямлили что-то невнятное, ибо, будучи первокурсниками, что-либо возразить боялись, в тайне сожалея, что вообще попались ей на глаза. «Вот и прекрасненько!» – заключила Римма Павловна, сразу же представив нас аспирантке Сание Зариповой, ныне доценту КХТИ, со временем ставшей для нас просто Соней.
Поначалу «наука» для нас с Андрюшей заключалась в мытье лабораторной посуды, в приготовлении каких-то растворов, в прочей низко квалифицированной работе. Делать что-то серьёзное мы, разумеется, ещё не умели: на младших курсах преподавали только общебиологические дисциплины. Тем не менее, в группе успели похвастаться: нас приобщают к науке! После чего, не скрою, сокрушенно вздохнули.
По мере нашего «поумнения», мы стали кое-что понимать в том, что нас просили делать. Но в паре с Ширшовым из-за буйного веселья мы были настолько непродуктивны, что Римма Павловна вынесла в конце третьего курса решение нас «развести».
Андрея оставили у Сони, а я оказался в «проблемке», возглавляемой Борисом Михайловичем Куриненко. И в начале четвёртого курса мне была сообщена будущая тема дипломной работы: «Получение и свойства рибонуклеазы Bacillus intermedius, модифицированной хлорангидридом адамантанкарбоновой кислоты». Попросту говоря, нужно было посмотреть, как изменятся свойства двух компонентов, имеющих самостоятельное противовирусное действие, если их «присобачить» друг к другу: фермента рибонуклеазы (РНКазы) одного из видов бацилл, и хлорангидрида – представителя гомологического ряда адамантанов, самым известным из которых является противовирусный препарат «Ремантадин». Вот такой, понимаете ли, «едрид и ангидрид», как пел Высоцкий.
Итак, для меня изучение этого дела должно было стать дипломной работой. Для моей непосредственной руководительницы Калачёвой Натальи Васильевны – разделом в кандидатской диссертации. Ну, а для Куриненко – абзацем, а то и парой строчек в докторской. Всё очень стройно и последовательно.
Связать эти два компонента и химически их охарактеризовать мне предстояло в проблемной лаборатории. А испытать противовирусное действие с помощью вируса гриппа – в Риге, в лаборатории ингибиторов вирусной активности Института микробиологии академии наук Латвийской ССР имени Августа Кирхенштейна. Что ж, надо – значит надо. С Натальей Васильевной у нас сразу установились добрые, конструктивные отношения. В «разводе» с родным Ширшовым работать действительно оказалось продуктивней.
Я очень старался, из чего Куриненко вполне закономерно заключил, что я «произвожу приятное впечатление». Мне же помимо всего прочего очень хотелось побывать почти за границей, в Латвии, в неведомой Риге.
2
Прибалтика в Советском Союзе пользовалась большим уважением – какой-никакой, а всё-таки Запад. Такой далёкий, неведомый и манящий… Человек, говоривший с прибалтийским акцентом, сразу вызывал к себе интерес, особенно у женщин. Скрывать не стану: прибалты – эстонцы, латыши и литовцы – смотрели на нас высокомерно. Мы подсознательно мирились с этим, был такой момент, и отрицать это бессмысленно. Но и основания у прибалтов, в то время, имелись. Годы большого террора коснулись их по минимуму, коллективизация была не такой свирепой, как у нас, да и с «величественной» сталинианой познакомились они лишь в её конце. Добавить к этому самый высокий уровень жизни в СССР, мощную промышленность и развитое сельское хозяйство, во многом сохранившее своё историческое хуторское начало, хоть и в колхозной интерпретации. Традиционный уклад жизни был во многом сохранён, плюс европейская архитектура, аккуратность, чистота, опрятность во всём. Да! И море! Хоть и холодное. Одно слово – Прибалтика.
Прибыл я в Ригу поздно вечером. На вокзале расспросил, где находится университетское общежитие, и уже в темноте отправился на его поиски. Нашёл быстро, но не то – общага оказалась юрфаковской. Тем не менее, показав на вахте документы и командировочное удостоверение, я надеялся получить ночлег. И не ошибся: случайно оказавшийся рядом студент по имени Гунтис, объяснив вахтёрше, что у него соседи по комнате в отъезде, любезно пригласил меня переночевать к себе – вахтёрша не возразила. Было неожиданно приятно, так как я был наслышан о неприветливости и национализме прибалтов.
Студент-латыш пригласил меня хлебнуть чайку. Добро! Тем более, ещё оставалась кое-какая снедь, не осиленная мною в дороге. Я начал озираться по комнате в поисках чайника, кружек и тарелок, но не находил их. Оказывается, чай у них принято пить не в комнатах, как у нас в общаге, а на кухне – все стены её были увешаны шкафчиками под соответствующими номерами комнат. Я заглянул в два из них – полные наборы посуды и прочей кухонной утвари. Да-а-а… Искренне подивившись, я живо представил себе, какой бы начался «круговорот» посуды в нашей биофаковской казанской общаге после чьего-нибудь первого же дня рождения! А тут – порядок. И мы с Гунтисом, попив чайку и сполоснув после себя посуду, всё сложили на место.
На следующее утро, искренне поблагодарив гостеприимного латыша и простившись с ним, я вскоре нашёл то, что искал: аспирантское общежитие №3 Рижского государственного университета имени Стучки. Оно находилось в центральном районе города, в старинном доме, на стенах которого висели две мемориальные доски: здесь жили Альфред Калныньш и академик Мстислав Келдыш.
В комнате я поначалу жил один. Моё жилище было просторным, с высокими потолками, правда, окно, выходившее в тёмный двор-колодец, давало мало света. Но это ничуть не портило настроения. Главное – работа. Досуг я полностью занимал изучением города, а в выходные и праздники путешествовал по региону. Чуть позже ко мне подселили одного доцента-математика, Ельдеса Бурина, командированного из Казахского университета. Ельдес-абый называл меня «татарином». Жили мы мирно, каждый занимался своим делом.
Институт микробиологии находился за городом, в лесу Клейсту, что по Болдерайскому шоссе. Я быстро сошёлся с коллективом лаборатории, возглавляемым Музой Индулен. Руководителем мне назначили младшую научную сотрудницу Наталью Замятину – приятную, приветливую, обаятельную молодую женщину. И покатились мои трудовые будни в этой почти заграничной лаборатории.
Русские сотрудницы были живее и общительнее своих латышских коллег. Доктор Индулен почти не выходила из своего кабинета. Строгость и официоз исходили от старшей научной сотрудницы Дагнии Дзегузе. Её присутствие всегда несколько напрягало: она, стремясь создать подчёркнуто рабочую атмосферу в коллективе, всегда мерила строгим взглядом всех, у кого просто было хорошее настроение. Кстати, в Латвии официально принято обращение к научным сотрудникам по фамилии с приставкой «доктор», причём необязательно, чтобы они являлись собственно докторами наук. С Наташей, моей руководительницей, мы подружились. Общались, в основном, в лабораторном боксе – я у неё многому научился в работе, начав осваивать новые для себя методики – вирусологические.
В лаборатории трудилась самая лучшая лаборантка из всех, кого мне довелось увидеть за свою научную карьеру. Звали её Скайдрите Рейковска, или просто Скайча, в её руках всё «горело», она никогда не сидела без работы. Я не раз восхищенно говорил: «Скайча – настоящее достояние нашей лаборатории». Она, по-моему, была без образования, по-русски говорила с сильным акцентом, да и работала в институте только потому, что жила недалеко от него в большом собственном доме. От Скайчи всегда веяло основательностью, жизненным тонусом, уверенностью. С такой женщиной, наверное, любому мужику – как за каменной стеной. Но, несмотря на то, что у неё был уже взрослый сын, муж отсутствовал, что было весьма неожиданным фактом. Что ж, и так, к сожалению, в жизни бывает.
Кроме меня и ещё одного лаборанта-вечерника, работавшего на полставки, сотрудников мужского пола в лаборатории не было. Поговаривали, что всех мужиков доктор Индулен банально выживала. Да и сам институт являл собой классический «женский монастырь» – вещь заурядная для подобных научных заведений. Сотрудница-латышка из соседней лаборатории как-то поинтересовалась у одной из моих коллег, спросив по-русски: «А что у вас за новый, э-э-э, жёлтый мальчик?» Слова «рыжий» она то ли не знала, то ли не вспомнила. Так что моё появление в коллективе института сразу заметили. И «жёлтый» мальчик был тут же привлечён к сдаче норм ГТО по плаванию, к концерту художественной самодеятельности института – исполнить с коллективом лаборатории латышскую песню «Пут, вейни!» («Вей, ветерок!»).
– Петь, нам бы втроём завтра потропить: тяжело вдвоём-то.
Я опешил:
– Вы что, мужики, неужели решили, что мне здесь нравится сидеть?! Да и Танька, по-моему, в полном порядке. Завтра же иду с вами!
Танька, подняв глаза, часто-часто заморгала:
– Да-да-да, ребята, конечно. Я приберусь и поесть приготовлю, и печку буду топить, и дровишек принесу. А у тебя, Саша, вон штаны порвались, снимай, я зашью!
– Добро. Только от избушки не дальше, чем на десять метров! И смотри, не запали её!
6
Оставшиеся дни я с удовольствием изучал заповедную тайгу, помогал, чем мог, молодому и бывалому СОПовцам, добросовестно топтал глубокий снег.
Сказать, что Саня Герасимов молодец – значит, не сказать ничего. Я не встречал людей, которые бы так разбирались в шарадах многочисленных звериных следов. «Так, это – тот самый русак-двухлетка. След вчерашний, его я помню и по другим квадратам. Ишь, разбегался! Ага, лисица, след совсем свежий, видимо, нас учуяла, только что ушла. Ну, это, похоже, та же волчья тропа, что идёт на север». И так далее. Где-то он снимал с коры еле заметный клочок шерсти и, помяв его и понюхав, называл хозяина. Где-то, достав спичку, клал её на снег между отпечатками лап. И всё вполголоса рассказывал и рассказывал Лёхе об обитателях тайги, тот кивал, тоже щупал кусочки шерсти, ковырял кору на деревьях, определял по компасу направление следа. Затем доставалась карта, что-то сверялось, что-то записывалось карандашом на бумагу в планшете.
Я внимал этим премудростям вполуха. Понимал лишь главное: существуют специальные методики определения численности разных видов животных по паутине их следов. Я и раньше с восхищением читал в расписании занятий названия изучаемых «охранниками» дисциплин: лесоведение, луговедение, охотоведение и другие экзотические предметы. Но тут отчётливо понял: всё это – не просто так.
За четыре дня мы истоптали изучаемый сектор заповедника вдоль и поперёк, даже заглянули на соседний – вдруг кого-то из наших увидим. Или браконьеров. Но никого не встретили. А девочка наша старалась изо всех сил: в избушке всё, насколько это было возможно, блестело, к нашему приходу всегда был готов ужин, печка протоплена, дровишки аккуратно уложены. Ну, и ко мне она стала проявлять подчеркнутую учтивость и доброжелательность – учение пошло впрок.
За день до нашего возвращения в Галашки Саня устроил, как принято говорить у туристов, днёвку – что-то нужно было починить, посмотреть, да и просто отдохнуть перед обратным марш-броском. Ещё он внимательно наблюдал за Танькой, что было и заметно, и понятно.
И вот ранним утречком мы, позавтракав и поклонившись гостеприимной избушке, двинули назад. Бог послал погожий солнечный денёк, осадков за весь период нашего пребывания не было, рюкзаки заметно похудели, поэтому по своей же лыжне добрались до Галашек очень резво. Танька, слава Богу, не подкачала. И лишь когда мелькнули между ёлок впереди первые деревенские избушки, Герасимов шумно выдохнул: «Фу-у-у!» Затем, нагнувшись ко мне, тихо, но зловеще прохрипел: «Ох, и выдам я Ленке Рощиной: это она мне навязала Татьяну!..»
В Галашках, в одной из изб разместилась контора Сулемского лесничества, к которому относится Висимский заповедник. Здесь мы встретились с остальными СОПовцами. Ни у кого не случилось никаких происшествий, все были рады. На грузовиках добрались к вечеру до Висима. Ввалились к Ляйсан голодные, уставшие, но счастливые. Выяснения отношений Герасимова с Рощиной я не видел, но про себя отметил, что они принципиально стараются не замечать друг друга. Танька растерянно посматривала то на одного, то на другого. Ладно, думаю, история окончена – сами промеж себя разберутся. Только однажды, во время ужина у Ляйсан, Саня перед всеми громогласно, со смехом изрёк: «Ну, Таня, расскажи, как медведей за уши ловила!» Юная «медвежатница», надув губки, опустила глаза. «Штатная» журналистка дружины Кащеева что-то лихорадочно переписывала из блокнота в блокнот.
Накануне отъезда Герасимов и руководители групп сдали в контору все данные обследований территорий. Утром, получив расчёт в кассе, мы двинули в Нижний Тагил, а оттуда – в Свердловск. На следующий же день в УЛТИ начиналась Всесоюзная студенческая конференция дружин охраны природы. Мне любопытно было глянуть на студентов – энтузиастов своего дела. И я не обманулся в ожидании абсолютного позитива: сотни светлых, умных лиц с увлечёнными искрящимися глазами; делегаты (многие были знакомы друг с другом) радовались встрече. Честное слово, мне стало так хорошо, что захотелось их обнять – каждого поодиночке и всех вместе. Думалось, что защита природы в нашей стране в надежных руках.
Были и печальные минуты. Вспоминали тех, кого нет рядом. По традиции, конференция началась минутой молчания в память о студентах – защитниках природы, погибших от рук браконьеров при исполнении своей добровольной миссии…
Где сейчас Александр Герасимов, я не знаю. Последний раз я видел его в очень популярной некогда программе «Взгляд». Шёл рассказ об одном заповеднике, которым он руководил, и где навёл образцовый порядок.
А Таньку я вскоре после возвращения встретил в нашей общаге. Она буквально затащила меня в гости, представив соседкам по комнате, таким же зеленым первокурсницам, «большим другом». Ладно, думаю, на здоровье. За кружкой чая я подробно рассказал о большом вкладе Татьяны в дело защиты уральской природы, не скупясь на комплименты в её адрес. Она, сияя, глядела сверху вниз на раскрывших рот подружек. И только уходя, я вполголоса сказал ей: «Ну, а уж как ты «ловила медведей за уши», расскажешь им сама». Она, привычно опустив глазки, промолчала. На том и простились. Больше я с Танькой никогда не встречался. По отрывочным сведениям узнал, что на пятом курсе она вышла замуж за Лёху – я порадовался. Дай Бог, чтобы всё у них было хорошо. Чтобы добрым словом вспоминали «наше зимовье». Но удалось ли ей тогда попасть в Байкальский заповедник, я так и не узнал.
Воспоминание седьмое.
Как я защищался
1
К науке нас начинали приучать с младших курсов. Помню, завкафедрой Наумова Римма Павловна ещё на первом курсе подошла к нам с Ширшовым: «Ребята, вы хотите заниматься наукой». Эта фраза, вроде, должна была прозвучать вопросом. Но она прозвучала, как утверждение, почти указание. Мы промямлили что-то невнятное, ибо, будучи первокурсниками, что-либо возразить боялись, в тайне сожалея, что вообще попались ей на глаза. «Вот и прекрасненько!» – заключила Римма Павловна, сразу же представив нас аспирантке Сание Зариповой, ныне доценту КХТИ, со временем ставшей для нас просто Соней.
Поначалу «наука» для нас с Андрюшей заключалась в мытье лабораторной посуды, в приготовлении каких-то растворов, в прочей низко квалифицированной работе. Делать что-то серьёзное мы, разумеется, ещё не умели: на младших курсах преподавали только общебиологические дисциплины. Тем не менее, в группе успели похвастаться: нас приобщают к науке! После чего, не скрою, сокрушенно вздохнули.
По мере нашего «поумнения», мы стали кое-что понимать в том, что нас просили делать. Но в паре с Ширшовым из-за буйного веселья мы были настолько непродуктивны, что Римма Павловна вынесла в конце третьего курса решение нас «развести».
Андрея оставили у Сони, а я оказался в «проблемке», возглавляемой Борисом Михайловичем Куриненко. И в начале четвёртого курса мне была сообщена будущая тема дипломной работы: «Получение и свойства рибонуклеазы Bacillus intermedius, модифицированной хлорангидридом адамантанкарбоновой кислоты». Попросту говоря, нужно было посмотреть, как изменятся свойства двух компонентов, имеющих самостоятельное противовирусное действие, если их «присобачить» друг к другу: фермента рибонуклеазы (РНКазы) одного из видов бацилл, и хлорангидрида – представителя гомологического ряда адамантанов, самым известным из которых является противовирусный препарат «Ремантадин». Вот такой, понимаете ли, «едрид и ангидрид», как пел Высоцкий.
Итак, для меня изучение этого дела должно было стать дипломной работой. Для моей непосредственной руководительницы Калачёвой Натальи Васильевны – разделом в кандидатской диссертации. Ну, а для Куриненко – абзацем, а то и парой строчек в докторской. Всё очень стройно и последовательно.
Связать эти два компонента и химически их охарактеризовать мне предстояло в проблемной лаборатории. А испытать противовирусное действие с помощью вируса гриппа – в Риге, в лаборатории ингибиторов вирусной активности Института микробиологии академии наук Латвийской ССР имени Августа Кирхенштейна. Что ж, надо – значит надо. С Натальей Васильевной у нас сразу установились добрые, конструктивные отношения. В «разводе» с родным Ширшовым работать действительно оказалось продуктивней.
Я очень старался, из чего Куриненко вполне закономерно заключил, что я «произвожу приятное впечатление». Мне же помимо всего прочего очень хотелось побывать почти за границей, в Латвии, в неведомой Риге.
2
Прибалтика в Советском Союзе пользовалась большим уважением – какой-никакой, а всё-таки Запад. Такой далёкий, неведомый и манящий… Человек, говоривший с прибалтийским акцентом, сразу вызывал к себе интерес, особенно у женщин. Скрывать не стану: прибалты – эстонцы, латыши и литовцы – смотрели на нас высокомерно. Мы подсознательно мирились с этим, был такой момент, и отрицать это бессмысленно. Но и основания у прибалтов, в то время, имелись. Годы большого террора коснулись их по минимуму, коллективизация была не такой свирепой, как у нас, да и с «величественной» сталинианой познакомились они лишь в её конце. Добавить к этому самый высокий уровень жизни в СССР, мощную промышленность и развитое сельское хозяйство, во многом сохранившее своё историческое хуторское начало, хоть и в колхозной интерпретации. Традиционный уклад жизни был во многом сохранён, плюс европейская архитектура, аккуратность, чистота, опрятность во всём. Да! И море! Хоть и холодное. Одно слово – Прибалтика.
Прибыл я в Ригу поздно вечером. На вокзале расспросил, где находится университетское общежитие, и уже в темноте отправился на его поиски. Нашёл быстро, но не то – общага оказалась юрфаковской. Тем не менее, показав на вахте документы и командировочное удостоверение, я надеялся получить ночлег. И не ошибся: случайно оказавшийся рядом студент по имени Гунтис, объяснив вахтёрше, что у него соседи по комнате в отъезде, любезно пригласил меня переночевать к себе – вахтёрша не возразила. Было неожиданно приятно, так как я был наслышан о неприветливости и национализме прибалтов.
Студент-латыш пригласил меня хлебнуть чайку. Добро! Тем более, ещё оставалась кое-какая снедь, не осиленная мною в дороге. Я начал озираться по комнате в поисках чайника, кружек и тарелок, но не находил их. Оказывается, чай у них принято пить не в комнатах, как у нас в общаге, а на кухне – все стены её были увешаны шкафчиками под соответствующими номерами комнат. Я заглянул в два из них – полные наборы посуды и прочей кухонной утвари. Да-а-а… Искренне подивившись, я живо представил себе, какой бы начался «круговорот» посуды в нашей биофаковской казанской общаге после чьего-нибудь первого же дня рождения! А тут – порядок. И мы с Гунтисом, попив чайку и сполоснув после себя посуду, всё сложили на место.
На следующее утро, искренне поблагодарив гостеприимного латыша и простившись с ним, я вскоре нашёл то, что искал: аспирантское общежитие №3 Рижского государственного университета имени Стучки. Оно находилось в центральном районе города, в старинном доме, на стенах которого висели две мемориальные доски: здесь жили Альфред Калныньш и академик Мстислав Келдыш.
В комнате я поначалу жил один. Моё жилище было просторным, с высокими потолками, правда, окно, выходившее в тёмный двор-колодец, давало мало света. Но это ничуть не портило настроения. Главное – работа. Досуг я полностью занимал изучением города, а в выходные и праздники путешествовал по региону. Чуть позже ко мне подселили одного доцента-математика, Ельдеса Бурина, командированного из Казахского университета. Ельдес-абый называл меня «татарином». Жили мы мирно, каждый занимался своим делом.
Институт микробиологии находился за городом, в лесу Клейсту, что по Болдерайскому шоссе. Я быстро сошёлся с коллективом лаборатории, возглавляемым Музой Индулен. Руководителем мне назначили младшую научную сотрудницу Наталью Замятину – приятную, приветливую, обаятельную молодую женщину. И покатились мои трудовые будни в этой почти заграничной лаборатории.
Русские сотрудницы были живее и общительнее своих латышских коллег. Доктор Индулен почти не выходила из своего кабинета. Строгость и официоз исходили от старшей научной сотрудницы Дагнии Дзегузе. Её присутствие всегда несколько напрягало: она, стремясь создать подчёркнуто рабочую атмосферу в коллективе, всегда мерила строгим взглядом всех, у кого просто было хорошее настроение. Кстати, в Латвии официально принято обращение к научным сотрудникам по фамилии с приставкой «доктор», причём необязательно, чтобы они являлись собственно докторами наук. С Наташей, моей руководительницей, мы подружились. Общались, в основном, в лабораторном боксе – я у неё многому научился в работе, начав осваивать новые для себя методики – вирусологические.
В лаборатории трудилась самая лучшая лаборантка из всех, кого мне довелось увидеть за свою научную карьеру. Звали её Скайдрите Рейковска, или просто Скайча, в её руках всё «горело», она никогда не сидела без работы. Я не раз восхищенно говорил: «Скайча – настоящее достояние нашей лаборатории». Она, по-моему, была без образования, по-русски говорила с сильным акцентом, да и работала в институте только потому, что жила недалеко от него в большом собственном доме. От Скайчи всегда веяло основательностью, жизненным тонусом, уверенностью. С такой женщиной, наверное, любому мужику – как за каменной стеной. Но, несмотря на то, что у неё был уже взрослый сын, муж отсутствовал, что было весьма неожиданным фактом. Что ж, и так, к сожалению, в жизни бывает.
Кроме меня и ещё одного лаборанта-вечерника, работавшего на полставки, сотрудников мужского пола в лаборатории не было. Поговаривали, что всех мужиков доктор Индулен банально выживала. Да и сам институт являл собой классический «женский монастырь» – вещь заурядная для подобных научных заведений. Сотрудница-латышка из соседней лаборатории как-то поинтересовалась у одной из моих коллег, спросив по-русски: «А что у вас за новый, э-э-э, жёлтый мальчик?» Слова «рыжий» она то ли не знала, то ли не вспомнила. Так что моё появление в коллективе института сразу заметили. И «жёлтый» мальчик был тут же привлечён к сдаче норм ГТО по плаванию, к концерту художественной самодеятельности института – исполнить с коллективом лаборатории латышскую песню «Пут, вейни!» («Вей, ветерок!»).