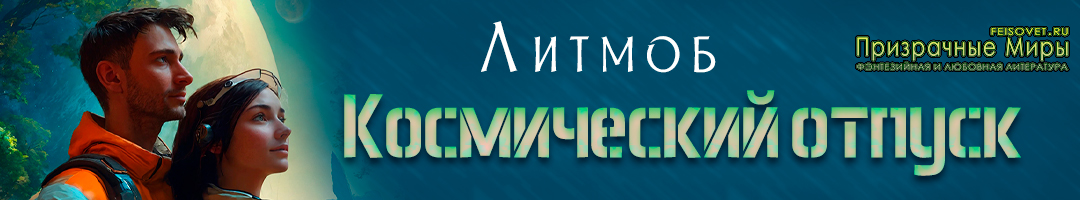Мало света при свечах,
но и тьма конечна,
гаснут свечи,
ты — лишь прах,
замолчи — навечно [1]
С кровью на руках ты придешь в мой дом.
С болью на душе ты мне дашь зарок.
Выплакав глаза, отвори засов
И впусти всех тех, кто не видит снов.
Бродит по земле бедная душа,
Кость ее молит: «упокой меня».
Ты не слышишь песнь, той гнилой кости?
Ай, беда пришла воли вопреки!
Ты замрешь в углу, стает уголек.
Нет, всё впереди, дай мне только срок!
Тьма сомкнула пасть, нет не убежишь.
Маленькая мышь, что же ты молчишь?
…сыскали мужика с волчьим хвостом да порешили его всем миром. Кинули тело хладное на костер из осиновых дров во сто возов и подожгли. Полезли из лопнувшей утробы колдуна змеи и черви, да разные гады, полетели сороки и вороны. Народ их метлами, лопатами, кочергами бьет да обратно в огонь бросает, ни одному червяку не дали ускользнуть! Сгорел колдун дотла, ничего от него не осталось, окромя сердца черного. Разрезали то сердце — а внутри лед.
Туманная дымка легкой паутинкой стелилась по едва тронувшей солнцем земле. Пробудилась птичка малая, птичка бойка — пеночка-теньковка — почистила перышки бурые, да только заводить свою песенку жалостливую, песенку нежную временила. Таил опасность обманчиво мирный час. Пусть схоронились по норам твари до крови жадные — острят они клыки да точат когти, которая день белый, дожидаясь ночи темной — а далеко не всяк кошмар рассеивается с первыми солнечными лучами. Ухо востро держать — занятье не лишнее, а то останутся от тебя одни рожки и ножки. Поди собери их потом. Ни пришить, ни приделать.
Облетели деревья — поредел осенний лес. Цветистым ковром покрылся, куда взор не кинь — желтая, красная листва то тут, то там мелькает на земле. Ох, поспешил зайчишка-белячишка шубку свою менять! Пятнами белыми косой весь пошел. На снегу-то его не увидать, а нынче… Нынче трясется облоухий под кустом, во влажный мох пузом прижавшись — страшно. Чай охотник аль зверь хищный какой его приметит? Вопьются зубы в тельце мягкое, разорвет дробь сердечко суетное — ой, как страшно! А зверь уж и впрямь след взял. Лист сухой гремит под неуклюжими ногами, почто гром среди ясного неба, но под чуткой хищной лапой клонится в безмолвном поклоне пожухшая трава, молчание хранит облетевшая листва. Дрожит зайчишка. Попусту дрожит. Не его учуял зверь плоти алчущий. Глупая коза, даром забрела ты в дремучую чащу. В Гнилой лес. В селе тебе страшиться бродячих собак иль проказливых мальчишек. Чащоба же скрывает зверей, куда опасней.
Замер зверь. Натянулась тетива мышц. Стоит разжать пальцы и некому остановить пустившуюся в полет стрелу. Некому сдержать сорвавшегося в прыжок грима. Свистит стрела. Рычит зверь.
Раз!
Аромат пряных подгнивших листьев сменяется запахом смерти: металлический, тягучий, сосущий под лопаткой с солоноватым привкусом на обветренных губах. Откинулся грим на бок, дернул раз-другой в корчах лапами, дык и обмяк, бездыханно вытянувшийся на сосновом иглище. Закатились глаза, потухли угли жизнь в них. Из распоротого звериного брюха сочился алый ручей. Не издавал тот ручей сладкозвучного журчания, подобно горному собрату. Не сулил уставшим путникам избавления от жажды. Он был нем и тих, как сердце застывшие в груди грима. Предвестник смерти сам повстречал свою погибель.
Фигура в белом саване поднялась с колен. Тонкоствольной березкой заколыхалась на ветру, зашуршала пожаром осенней листвы спутанных волос. Мелькнул сжатый в руке нож. Старая поговорка гласила: есть три вещи, которые никогда не видно — острие лезвия, ветер и любовь. То-то и грим не углядел клинка. Как и то, на кого дерзнул напасть. Куда ему тягаться с баггейном ! У того людской ум да подлость, обросшая шкурой из звериных повадок. Где не возьмет силой — добьет смекалкой.
Девица с презрением пнула мертвую тушу, и убрала нож за пояс рубахи. По ситцевому подолу черновыми цветами вспыхнули пятна окаянной крови. Нечаянная встреча Юшку не осчастливила. Она-то было понадеялась на бирюка иль муравейничка , а тут нате, нечисть зубоскальная! Гримы, как водится, ютились около заброшенных жальников близ церквей. До оной, к слову, рукой подать — аршинов двадцать — ровнехонько на краю леска стоит. Прогнила черепица, обвалился шпиль, алтарь загадило зверье лесное, а сам могильник порос густым бурьяном. Люд сюда ходить не смеет. Балакали, ночами в церквушке воет да свищет, аж кровь в жилах стынет! Ажно кому охота с жизнью распрощаться — место самое то! Грибное!
Так-то оно так, одначе нарваться на грима с первыми петухами, что повстречать медведя шатуна посредине лютой зимы. Свезло, ничего не скажешь! Вконец страх потеряли! Юшке чай ремень доставать и показывать, кто нынче в доме хозяйка? Иль на худой конец заговоренный медный нож с глупым именем Сверкунчик. Пусть от нелепого прозвища коробило, а не повадно по лесу ходить, покуда нож не наречешь. Обернется он в дурной час против тебя.
Чудно?е творилось с месяц. Ломило Юшкину головушку, кололи подушечки пальцев. Ворожбу творил кто-то. Копотливо да неумело. Мазнул здесь, мазнул там, верно пенку с молока собирает. Пробует. А коль распробует, далече что? Баггейн поморщилась. Подкатил к горлу ком. Молочную пенку девица терпеть не могла. Гадкая липкая одни кишки выворачивать и годится! Чужое ведовство будило чувства сродные. А уж гневило-то как! Не пойми откуда сия пакость тянется, кто творит и чего добивается. Ничего хорошего, это как пить дать! Тут иной вопрос назревал: дождаться ли сего «ничего хорошего» или обрубить заразу на корню?
Запел на кромке рассудка песней соловьиной охотничий манок. Повело Юшку, заштормило. На миг пошел мир вокруг рябью, будто в обманчиво тихий омут кто-то бросил камушек. Разошли круги по водной глади, едва коснулись берега незримого, как сызнова застыл омут.
Баггейн фыркнула. Можно подумать ей ли решать. Она жила не по своим законам, накрепко влипшая в паутину бытия. За ниточки дергали, и она отзывалась. Ах, перерезать бы эти ниточки! Да держится на них все.
Из дум невеселых Юшку вырвало хлопанье крыльев. Колючим дождиком осыпались еловые иголки на рогатое темечко. Как ощерилась оборотень, как прижала козьи уши, как вскинула голову, так и насупила брови хмурные. Пустой взор Гамаюн вперился в нее с ближайшего сука.
Юшка скрестила руки на груди:
— Эй, курица ты не с того конца ощипанная, чаво зенки своим вылупила?
Слыла Гамаюн глашатай божеств. Все на свете знала вещая птица о сотворении земли и неба, богов и людей, чудовищ и скрытого народца, зверей и птиц. Ежели летела Гамаюн с востока — жди смертоносной бури. Боялись и чтили птицу Гамаюн.
Чушь несусветная! Все до последнего слова! Пусть имела Гамаюн лик человечий, а разум у нее оставался на редкость куриный. Не способна была сия птица, далеко не синица, ни на связные беседы, ни на людские чувства. Кукушкой несмышленой куковала божественная глашатай пророчества, тем и славу в миру сыскала. Ибо всегда сбывались те пророчества, будь они неладны!
Глаза Гамаюн вспыхнули искрой осмысленности. Склонив девичью голову на иссиня-черное крыло, она пропела:
— …и явится смерть, доколе единая косточка будет лежать наружи, ибо сказано, что ни один человек поверх земли лежать не должен.
— Чаво?!
Уж за что баггейн на дух не переносила всяческие пророчества, так за их туманность. Ни один ведун на свете белом не молвит доброму человеку, куда тому именно путь-дорогу держать и какое дело делать. Махнет перстом указывающим, намеки, что крохи птицам раскидает, да будет таков. Никакого с них проку!
— Усе? Иль еще чаво прокукарекаешь? Да побредовее, да позадиристей?
Гамаюн нахохлилась, оттопырила хвост и смачно нагадила. Баггейн едва успела отскочить.
— Мохре?х ! — Зло зыркнув, девица подобрала с земли шишку и метко швырнула в глашатаю. Птица тяжело поднялась на крыло и сорвалась в полет. Не отрывая прищуренных вежд от исчезающей в сером небе Гамаюн, Юшка пробухтела: — Плохая примета.
Встреча со скрытым народцем не сулила никому добра. Ни другому скрытому народцу, ни человеку. Особенно человеку. Охочи были люди винить прочих в своих горестях, невзгодах и бедах. И не важно, что далеко не каждый разбитый горшок — проделки злокозненных фейри, а пьяные ноги и сами рады завести хозяина во мшарник. Свою вину признать — для человека дело тяжкое. Это нечета тебе пальцем обличительно в соседа тыкнуть! Дык и фейри не лыком шиты. Обидно, ежели тебя беспочвенно бранят, посему с чувством злорадной справедливости те делали людскую брань почвенной. Ни дать ни взять порочный круг. Мается народец скрытый, мается род людской, а ни выйти из сего круга, ни разорвать. Крепко-накрепко Покутная Матушка вяжет узлы. Крепко-накрепко всех в полотно жизни вплетает.
А совсем уж круглые дураки мнят, будто повстречав лепрекона, непременно сыщется горшочек с золотом и жизнь твоя обернется сказкой. Да токо забывают они, что сказочки-то бывают и с плохими концами. И вот оказываешься ты без килта в зарослях ежевики, откуда выбраться тебе суждено исцарапанным и приниженным. Коль вообще суждено выбраться.
Ежевика — есть иллюзия, приворот, обман, очарование и опасность. Нежно-белые цветы прячут шипы да черные ягоды. Не смей вкушать их! Мглой налиты некогда рдяные плоды, как и сердца фейри. Перепачкаешь пальцы не разобрав, где кровь, а где ягодный сок, да вовек не отмоешься.
? ? ?
Голые ветви деревьев скреблись в оконца домов. Ветры-листодёры гоняли по истоптанным улочкам охапки листвы, седой от изморози, что ударила с утра, да так и не удосужилась стаять. На тыквенных полях, перепрыгивая с одной пухлобокой тыквы на другую, хозяйничало воронье. Изжитое временем и непогодой пу?гало едва ли их страшило. Положа руку на сердце, пугало будило скорее жалость, нежели страх. Молчаливый соломенный страж в досюльной дохе с худым котелком на пустой башке. И в снег, и в дождь, и в град нес он свою одинокую службу, чтоб под конец сгореть в майском костре. Горькая судьбинушка, ничего не скажешь.
Как по ворожбе, распускался на облетевших кустах белоснежный яблоневый цвет — то стайка лазоревок порхала с места на место. Перебирала ладно цепкими лапками. Свистела мелодично тонкими голосками. Тосковала по ушедшему лету. Вдруг, замахала лепестками-крылышками, вспорхнула и расселась на ветвистом венце рогов одного из двух бронзовых оленей. Царственно возлежали те на булыжных тумбах въездных ворот, охраняя главную и единственную дорогу. Под копытом левого оленя была выгравирована надпись: «Vestigia nulla retrorsum», что означало «Я никогда не возвращаюсь по своим следам». Под копытом правого же висела табличка, гласившая «Сент-Кони». Гиблое местечко.
Сент-Кони сыскали славу захолустного поселения даже по меркам самого Кетхена. Земли его были сплошь усыпаны островами. Коль принять за чистую монету последний счет, было тех островов аж шестьсот штук! Вот токо люди жили едва ли на девяноста двух из них. Бо?льшая часть суши служила рыбакам или вовсе пустовала, отданная на гнев и милость матушке природе.
Деревеньке Сент-Кони подвезло вырасти на добротном куске камня, прозванном островом Схен. На том, собственно, везение ее и кончалось. Жилось в деревне чуть больше, чуть меньше, душ пятьсот. Позабытые другими людьми и богами Сент-Кони лежали вдали от наезженных трактов и не были никому любы, кроме тех, кто там проживал. Житие-бытье в деревне текло до того мирно, что казалось и вовсе застыло вне времени. В Кетхене многие земли такие, что каких-то сто-двести лет — будто вчера. Ничего не менялось, но неизбежно подходило к концу.
Нынешним утром Сент-Кони, как никогда смахивали на мертвую станицу. Лавочки затворены, улочки пустынны, а ветки деревьев продолжают настойчиво скрестись в темные окна без единой зажженной свечи. Но коль хорошенько прислушаться, то можно услыхать взбудораженную людскую молву. Доносилась та молва из самоделкового театра.
Уж третий час шло в нем очередное деревенское собрание. Похвастаться Сент-Кони могли всего двумя улицами и парой увеселительных публичных мест: театром и пабом. Местные жители охотно росли духовно в первом и еще охочее разлагались во втором. На повестке дня поднимались житейские вопросы деревни. Скажем, ремонт церковной крыши. Та зачастила протекать на головы добропорядочных прихожан, отвлекая тех от молебен праведных, сетовал настоятель, выжимая стихарь . Или же, как в оном году прошли Осенины . Все ли обновили огонь в доме? Никто ль из девиц не утоп, покуда ходили к озеру-реке, дабы встретить там матушку-осенину овсяным хлебом с киселем? И какой то?ла-то?не так и не соблаговолил скинуться на братчину , а дармовых яств отведал?!
Баяли и о «горячем»: у соседей с Церковного хутора повадились исчезать люди. Иногда сгинувших удавалось сыскать целехонькими, пусть и в забытье, но куда чаще тела их хладные вылавливали из Козлиной реки, коя протекала неподалеку от Сент-Кони. Мертвяки всяк раз были раздувшимися с черными синяками на шее. Душегуб ли лихой по Пустошам промышлял аль зеленый змий народ разгульный топил — оставалось неведомо.
Как бы то ни было, беды горемычных хуторян заботили деревенский куда меньше, нежели напасти со скотом. Не дали как в конце лета в полях Теплого Пастбища некто или нечто порешило несколько голов коров. Туши пастухи сыскали растерзанными, почерневшими и совсем не пригожими в пищу. Уж тогда-то вся деревня встала на уши! А сейчас чего там! Так, помолоть языками да непутевую молодежь попугать не бродить впотьмах. Впрочем, двери на ночь стали запирали накрепко и перепроверять не забывали.
— Все мы поляжем по зимней бескормице! — в сотый раз заголосила старуха Гульдра свою излюбленную присказку, стоило выступающему на секунду умолкнуть. Она запевала ее каждую осень, без малого лет десять. Покамест Сент-Кони не полегли, но Гульдра не теряла надежды. Должно же в какую-нибудь зиму свезти!
Пыля украдкой зевнула, мимоходом потерев озябший нос. Утепления театра тоже коснулись. В бывшем амбаре, удостоившемся чести стать культурным центром деревни, стоял собачий холод. Быть может, актерам отплясывать на сцене и ничего, а вот зрителям хлопать дрожавшими руками радости, эх, мало.
Прозорливо поминая колотун на протяжении всего собрания людям разносили дымящийся грог и жареные каштаны. Заправив светлую прядь волос за ухо, Пыля дунула и робко отпила из кружки. Грог — насыщенный и терпкий, черный, как деготь, густой, словно мед защекотал язык своей нестерпимой пряностью трав кардамона, корицы, звездчатого аниса и малость лугового клевера. Горячая «патока» медленно стекала по горлу отогревая каждую частичку окоченевшего тела. Сверток с каштанами девушка дальновидно припрятала за пазуху: и тебе грелка, и червячка заточить в обратном пути.
Мало тревожили Пылю деревенские проблемы. В Сент-Кони она и вовсе не жила. Просто-напросто любила девушка оставаться в курсе всего, а собирать, как речной жемчуг, правду с враньем, и того пуще. В компании пленительной травницы язык у многих развязывался не хуже, чем после медовухи. Красива Пыля была, словно вишневое деревце, что по весне нежным цветками распускается. Были у девицы большие голубые глаза, светлые, как небо в ясный день.
но и тьма конечна,
гаснут свечи,
ты — лишь прах,
замолчи — навечно [1]
Закрыть
.Строки из исландской сказки «Забавная темнота»
Часть первая. И лег туман
С кровью на руках ты придешь в мой дом.
С болью на душе ты мне дашь зарок.
Выплакав глаза, отвори засов
И впусти всех тех, кто не видит снов.
Бродит по земле бедная душа,
Кость ее молит: «упокой меня».
Ты не слышишь песнь, той гнилой кости?
Ай, беда пришла воли вопреки!
Ты замрешь в углу, стает уголек.
Нет, всё впереди, дай мне только срок!
Тьма сомкнула пасть, нет не убежишь.
Маленькая мышь, что же ты молчишь?
Глава 1. Забытые земли
…сыскали мужика с волчьим хвостом да порешили его всем миром. Кинули тело хладное на костер из осиновых дров во сто возов и подожгли. Полезли из лопнувшей утробы колдуна змеи и черви, да разные гады, полетели сороки и вороны. Народ их метлами, лопатами, кочергами бьет да обратно в огонь бросает, ни одному червяку не дали ускользнуть! Сгорел колдун дотла, ничего от него не осталось, окромя сердца черного. Разрезали то сердце — а внутри лед.
Туманная дымка легкой паутинкой стелилась по едва тронувшей солнцем земле. Пробудилась птичка малая, птичка бойка — пеночка-теньковка — почистила перышки бурые, да только заводить свою песенку жалостливую, песенку нежную временила. Таил опасность обманчиво мирный час. Пусть схоронились по норам твари до крови жадные — острят они клыки да точат когти, которая день белый, дожидаясь ночи темной — а далеко не всяк кошмар рассеивается с первыми солнечными лучами. Ухо востро держать — занятье не лишнее, а то останутся от тебя одни рожки и ножки. Поди собери их потом. Ни пришить, ни приделать.
Облетели деревья — поредел осенний лес. Цветистым ковром покрылся, куда взор не кинь — желтая, красная листва то тут, то там мелькает на земле. Ох, поспешил зайчишка-белячишка шубку свою менять! Пятнами белыми косой весь пошел. На снегу-то его не увидать, а нынче… Нынче трясется облоухий под кустом, во влажный мох пузом прижавшись — страшно. Чай охотник аль зверь хищный какой его приметит? Вопьются зубы в тельце мягкое, разорвет дробь сердечко суетное — ой, как страшно! А зверь уж и впрямь след взял. Лист сухой гремит под неуклюжими ногами, почто гром среди ясного неба, но под чуткой хищной лапой клонится в безмолвном поклоне пожухшая трава, молчание хранит облетевшая листва. Дрожит зайчишка. Попусту дрожит. Не его учуял зверь плоти алчущий. Глупая коза, даром забрела ты в дремучую чащу. В Гнилой лес. В селе тебе страшиться бродячих собак иль проказливых мальчишек. Чащоба же скрывает зверей, куда опасней.
Замер зверь. Натянулась тетива мышц. Стоит разжать пальцы и некому остановить пустившуюся в полет стрелу. Некому сдержать сорвавшегося в прыжок грима. Свистит стрела. Рычит зверь.
Раз!
Аромат пряных подгнивших листьев сменяется запахом смерти: металлический, тягучий, сосущий под лопаткой с солоноватым привкусом на обветренных губах. Откинулся грим на бок, дернул раз-другой в корчах лапами, дык и обмяк, бездыханно вытянувшийся на сосновом иглище. Закатились глаза, потухли угли жизнь в них. Из распоротого звериного брюха сочился алый ручей. Не издавал тот ручей сладкозвучного журчания, подобно горному собрату. Не сулил уставшим путникам избавления от жажды. Он был нем и тих, как сердце застывшие в груди грима. Предвестник смерти сам повстречал свою погибель.
Фигура в белом саване поднялась с колен. Тонкоствольной березкой заколыхалась на ветру, зашуршала пожаром осенней листвы спутанных волос. Мелькнул сжатый в руке нож. Старая поговорка гласила: есть три вещи, которые никогда не видно — острие лезвия, ветер и любовь. То-то и грим не углядел клинка. Как и то, на кого дерзнул напасть. Куда ему тягаться с баггейном ! У того людской ум да подлость, обросшая шкурой из звериных повадок. Где не возьмет силой — добьет смекалкой.
Девица с презрением пнула мертвую тушу, и убрала нож за пояс рубахи. По ситцевому подолу черновыми цветами вспыхнули пятна окаянной крови. Нечаянная встреча Юшку не осчастливила. Она-то было понадеялась на бирюка иль муравейничка , а тут нате, нечисть зубоскальная! Гримы, как водится, ютились около заброшенных жальников близ церквей. До оной, к слову, рукой подать — аршинов двадцать — ровнехонько на краю леска стоит. Прогнила черепица, обвалился шпиль, алтарь загадило зверье лесное, а сам могильник порос густым бурьяном. Люд сюда ходить не смеет. Балакали, ночами в церквушке воет да свищет, аж кровь в жилах стынет! Ажно кому охота с жизнью распрощаться — место самое то! Грибное!
Так-то оно так, одначе нарваться на грима с первыми петухами, что повстречать медведя шатуна посредине лютой зимы. Свезло, ничего не скажешь! Вконец страх потеряли! Юшке чай ремень доставать и показывать, кто нынче в доме хозяйка? Иль на худой конец заговоренный медный нож с глупым именем Сверкунчик. Пусть от нелепого прозвища коробило, а не повадно по лесу ходить, покуда нож не наречешь. Обернется он в дурной час против тебя.
Чудно?е творилось с месяц. Ломило Юшкину головушку, кололи подушечки пальцев. Ворожбу творил кто-то. Копотливо да неумело. Мазнул здесь, мазнул там, верно пенку с молока собирает. Пробует. А коль распробует, далече что? Баггейн поморщилась. Подкатил к горлу ком. Молочную пенку девица терпеть не могла. Гадкая липкая одни кишки выворачивать и годится! Чужое ведовство будило чувства сродные. А уж гневило-то как! Не пойми откуда сия пакость тянется, кто творит и чего добивается. Ничего хорошего, это как пить дать! Тут иной вопрос назревал: дождаться ли сего «ничего хорошего» или обрубить заразу на корню?
Запел на кромке рассудка песней соловьиной охотничий манок. Повело Юшку, заштормило. На миг пошел мир вокруг рябью, будто в обманчиво тихий омут кто-то бросил камушек. Разошли круги по водной глади, едва коснулись берега незримого, как сызнова застыл омут.
Баггейн фыркнула. Можно подумать ей ли решать. Она жила не по своим законам, накрепко влипшая в паутину бытия. За ниточки дергали, и она отзывалась. Ах, перерезать бы эти ниточки! Да держится на них все.
Из дум невеселых Юшку вырвало хлопанье крыльев. Колючим дождиком осыпались еловые иголки на рогатое темечко. Как ощерилась оборотень, как прижала козьи уши, как вскинула голову, так и насупила брови хмурные. Пустой взор Гамаюн вперился в нее с ближайшего сука.
Юшка скрестила руки на груди:
— Эй, курица ты не с того конца ощипанная, чаво зенки своим вылупила?
Слыла Гамаюн глашатай божеств. Все на свете знала вещая птица о сотворении земли и неба, богов и людей, чудовищ и скрытого народца, зверей и птиц. Ежели летела Гамаюн с востока — жди смертоносной бури. Боялись и чтили птицу Гамаюн.
Чушь несусветная! Все до последнего слова! Пусть имела Гамаюн лик человечий, а разум у нее оставался на редкость куриный. Не способна была сия птица, далеко не синица, ни на связные беседы, ни на людские чувства. Кукушкой несмышленой куковала божественная глашатай пророчества, тем и славу в миру сыскала. Ибо всегда сбывались те пророчества, будь они неладны!
Глаза Гамаюн вспыхнули искрой осмысленности. Склонив девичью голову на иссиня-черное крыло, она пропела:
— …и явится смерть, доколе единая косточка будет лежать наружи, ибо сказано, что ни один человек поверх земли лежать не должен.
— Чаво?!
Уж за что баггейн на дух не переносила всяческие пророчества, так за их туманность. Ни один ведун на свете белом не молвит доброму человеку, куда тому именно путь-дорогу держать и какое дело делать. Махнет перстом указывающим, намеки, что крохи птицам раскидает, да будет таков. Никакого с них проку!
— Усе? Иль еще чаво прокукарекаешь? Да побредовее, да позадиристей?
Гамаюн нахохлилась, оттопырила хвост и смачно нагадила. Баггейн едва успела отскочить.
— Мохре?х ! — Зло зыркнув, девица подобрала с земли шишку и метко швырнула в глашатаю. Птица тяжело поднялась на крыло и сорвалась в полет. Не отрывая прищуренных вежд от исчезающей в сером небе Гамаюн, Юшка пробухтела: — Плохая примета.
Встреча со скрытым народцем не сулила никому добра. Ни другому скрытому народцу, ни человеку. Особенно человеку. Охочи были люди винить прочих в своих горестях, невзгодах и бедах. И не важно, что далеко не каждый разбитый горшок — проделки злокозненных фейри, а пьяные ноги и сами рады завести хозяина во мшарник. Свою вину признать — для человека дело тяжкое. Это нечета тебе пальцем обличительно в соседа тыкнуть! Дык и фейри не лыком шиты. Обидно, ежели тебя беспочвенно бранят, посему с чувством злорадной справедливости те делали людскую брань почвенной. Ни дать ни взять порочный круг. Мается народец скрытый, мается род людской, а ни выйти из сего круга, ни разорвать. Крепко-накрепко Покутная Матушка вяжет узлы. Крепко-накрепко всех в полотно жизни вплетает.
А совсем уж круглые дураки мнят, будто повстречав лепрекона, непременно сыщется горшочек с золотом и жизнь твоя обернется сказкой. Да токо забывают они, что сказочки-то бывают и с плохими концами. И вот оказываешься ты без килта в зарослях ежевики, откуда выбраться тебе суждено исцарапанным и приниженным. Коль вообще суждено выбраться.
Ежевика — есть иллюзия, приворот, обман, очарование и опасность. Нежно-белые цветы прячут шипы да черные ягоды. Не смей вкушать их! Мглой налиты некогда рдяные плоды, как и сердца фейри. Перепачкаешь пальцы не разобрав, где кровь, а где ягодный сок, да вовек не отмоешься.
? ? ?
Голые ветви деревьев скреблись в оконца домов. Ветры-листодёры гоняли по истоптанным улочкам охапки листвы, седой от изморози, что ударила с утра, да так и не удосужилась стаять. На тыквенных полях, перепрыгивая с одной пухлобокой тыквы на другую, хозяйничало воронье. Изжитое временем и непогодой пу?гало едва ли их страшило. Положа руку на сердце, пугало будило скорее жалость, нежели страх. Молчаливый соломенный страж в досюльной дохе с худым котелком на пустой башке. И в снег, и в дождь, и в град нес он свою одинокую службу, чтоб под конец сгореть в майском костре. Горькая судьбинушка, ничего не скажешь.
Как по ворожбе, распускался на облетевших кустах белоснежный яблоневый цвет — то стайка лазоревок порхала с места на место. Перебирала ладно цепкими лапками. Свистела мелодично тонкими голосками. Тосковала по ушедшему лету. Вдруг, замахала лепестками-крылышками, вспорхнула и расселась на ветвистом венце рогов одного из двух бронзовых оленей. Царственно возлежали те на булыжных тумбах въездных ворот, охраняя главную и единственную дорогу. Под копытом левого оленя была выгравирована надпись: «Vestigia nulla retrorsum», что означало «Я никогда не возвращаюсь по своим следам». Под копытом правого же висела табличка, гласившая «Сент-Кони». Гиблое местечко.
Сент-Кони сыскали славу захолустного поселения даже по меркам самого Кетхена. Земли его были сплошь усыпаны островами. Коль принять за чистую монету последний счет, было тех островов аж шестьсот штук! Вот токо люди жили едва ли на девяноста двух из них. Бо?льшая часть суши служила рыбакам или вовсе пустовала, отданная на гнев и милость матушке природе.
Деревеньке Сент-Кони подвезло вырасти на добротном куске камня, прозванном островом Схен. На том, собственно, везение ее и кончалось. Жилось в деревне чуть больше, чуть меньше, душ пятьсот. Позабытые другими людьми и богами Сент-Кони лежали вдали от наезженных трактов и не были никому любы, кроме тех, кто там проживал. Житие-бытье в деревне текло до того мирно, что казалось и вовсе застыло вне времени. В Кетхене многие земли такие, что каких-то сто-двести лет — будто вчера. Ничего не менялось, но неизбежно подходило к концу.
Нынешним утром Сент-Кони, как никогда смахивали на мертвую станицу. Лавочки затворены, улочки пустынны, а ветки деревьев продолжают настойчиво скрестись в темные окна без единой зажженной свечи. Но коль хорошенько прислушаться, то можно услыхать взбудораженную людскую молву. Доносилась та молва из самоделкового театра.
Уж третий час шло в нем очередное деревенское собрание. Похвастаться Сент-Кони могли всего двумя улицами и парой увеселительных публичных мест: театром и пабом. Местные жители охотно росли духовно в первом и еще охочее разлагались во втором. На повестке дня поднимались житейские вопросы деревни. Скажем, ремонт церковной крыши. Та зачастила протекать на головы добропорядочных прихожан, отвлекая тех от молебен праведных, сетовал настоятель, выжимая стихарь . Или же, как в оном году прошли Осенины . Все ли обновили огонь в доме? Никто ль из девиц не утоп, покуда ходили к озеру-реке, дабы встретить там матушку-осенину овсяным хлебом с киселем? И какой то?ла-то?не так и не соблаговолил скинуться на братчину , а дармовых яств отведал?!
Баяли и о «горячем»: у соседей с Церковного хутора повадились исчезать люди. Иногда сгинувших удавалось сыскать целехонькими, пусть и в забытье, но куда чаще тела их хладные вылавливали из Козлиной реки, коя протекала неподалеку от Сент-Кони. Мертвяки всяк раз были раздувшимися с черными синяками на шее. Душегуб ли лихой по Пустошам промышлял аль зеленый змий народ разгульный топил — оставалось неведомо.
Как бы то ни было, беды горемычных хуторян заботили деревенский куда меньше, нежели напасти со скотом. Не дали как в конце лета в полях Теплого Пастбища некто или нечто порешило несколько голов коров. Туши пастухи сыскали растерзанными, почерневшими и совсем не пригожими в пищу. Уж тогда-то вся деревня встала на уши! А сейчас чего там! Так, помолоть языками да непутевую молодежь попугать не бродить впотьмах. Впрочем, двери на ночь стали запирали накрепко и перепроверять не забывали.
— Все мы поляжем по зимней бескормице! — в сотый раз заголосила старуха Гульдра свою излюбленную присказку, стоило выступающему на секунду умолкнуть. Она запевала ее каждую осень, без малого лет десять. Покамест Сент-Кони не полегли, но Гульдра не теряла надежды. Должно же в какую-нибудь зиму свезти!
Пыля украдкой зевнула, мимоходом потерев озябший нос. Утепления театра тоже коснулись. В бывшем амбаре, удостоившемся чести стать культурным центром деревни, стоял собачий холод. Быть может, актерам отплясывать на сцене и ничего, а вот зрителям хлопать дрожавшими руками радости, эх, мало.
Прозорливо поминая колотун на протяжении всего собрания людям разносили дымящийся грог и жареные каштаны. Заправив светлую прядь волос за ухо, Пыля дунула и робко отпила из кружки. Грог — насыщенный и терпкий, черный, как деготь, густой, словно мед защекотал язык своей нестерпимой пряностью трав кардамона, корицы, звездчатого аниса и малость лугового клевера. Горячая «патока» медленно стекала по горлу отогревая каждую частичку окоченевшего тела. Сверток с каштанами девушка дальновидно припрятала за пазуху: и тебе грелка, и червячка заточить в обратном пути.
Мало тревожили Пылю деревенские проблемы. В Сент-Кони она и вовсе не жила. Просто-напросто любила девушка оставаться в курсе всего, а собирать, как речной жемчуг, правду с враньем, и того пуще. В компании пленительной травницы язык у многих развязывался не хуже, чем после медовухи. Красива Пыля была, словно вишневое деревце, что по весне нежным цветками распускается. Были у девицы большие голубые глаза, светлые, как небо в ясный день.