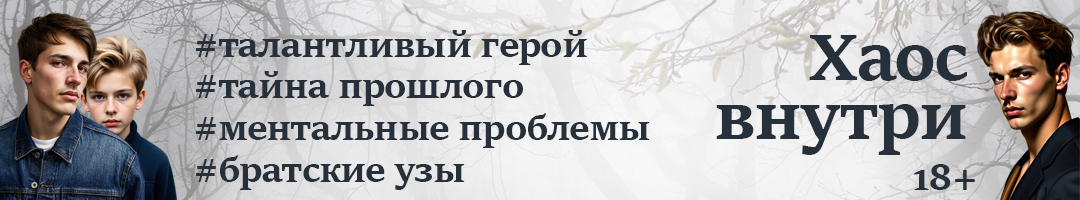Пытаться обезоружить браконьера без огневой поддержки – авантюра: никто не пожелает добровольно расстаться со своим оружием.
Если дружинники брали след, а зимой по лыжне сделать это очень просто, начиналось преследование браконьера. По протоптанной лыжне его настигали довольно быстро, тем более, охотники были, как правило, гораздо старше СОПовцев. И снегоходов тогда ещё практически не имели. Как только до преследуемого оставалось совсем близко – это угадывалось по свежести лыжного следа, по лаю собаки, – группа преследования раздваивалась: происходил охват для задержания. Браконьер должен был понимать, и в этом заключался принципиальный момент, что он под дополнительным скрытым наблюдением. Это предостерегало его от необдуманных, импульсивных действий.
Саня Герасимов даже похвастался: годом раньше ему с двумя дружинниками, удалось изъять сразу два ружья, хотя группы прикрытия не было совсем. Просто он артистически делал знаки в сторону якобы тех, кто его страховал из-за деревьев, чем и сбил с толку нарушителей.
Сами понимаете, когда происходил непосредственный контакт с браконьером, начиналась психологическая дуэль – жёсткое противостояние выдержек, характеров, убеждений. Тут всё зависело от настроя и намерений идти до конца. Собака охотника, конечно же, создавала дополнительную сложность, однако, как ни странно, псы обычно смирнели, да и хозяин не хотел рисковать: в натравленную собаку разрешалось стрелять.
Кто был более уязвим в подобной ситуации? Безусловно, браконьер: он осознанно нарушал существующий порядок, закон был на стороне СОПовцев, что прибавляло им уверенности. Но охотники – народ суровый, не робкого десятка, поэтому конфликты иногда случались очень серьезные. Однако, слава Богу, наших дружинников, по крайней мере, пока я учился, проносило мимо самых негативных сценариев развития событий.
Да уж… Вспоминаю это, пишу, и хочется ещё раз снять шляпу перед простыми студентами, готовыми жертвовать собой ради благородной идеи, а не корысти.
Итак, нам предстоял путь в Висимский заповедник. Небольшой отряд СОПовцев разбили на три оперативные группы. Как нам объяснили командир Герасимов, его заместитель Слава Муратов и комиссар дружины Лена Рощина, это нужно для того, чтобы группы смогли полностью охватить небольшую территорию заповедника – всего 13 000 гектаров, которые условно делились на три сектора.
По завершению работы в заповеднике наши СОПовцы планировали принять участие во всесоюзной студенческой конференции дружин охраны природы, которая должна была состояться в Свердловске на базе Уральского лесотехнического института. А для того, чтобы потом профессионально описать нашу «одиссею», в число дружинников включили студентку филфака Лену Кащееву, учившуюся на кафедре журналистики.
Да, девчонки тоже входили в состав дружины. Куда ж без них? Понятно, в оперативные рейды на браконьеров их не брали, но, как и в любом деле, без женщин было не обойтись. Недаром поётся в песне, везде нужен «хозяйский, зоркий женский глаз». СОПовки обычно брали на себя общеорганизационную деятельность и просветительскую работу. И уж если студентка сознательно шла в СОП, значит, она настоящая фанатка избранного дела. Например, комиссар Лена Рощина – хрупкая, невысокая девушка с огромными глазами, а в работе проявлялась «железной леди». Разделив девчонок по опергруппам, мы постарались облегчить участь представительниц прекрасной половины. Тем не менее, наши красавицы лёгкой жизни себе не искали.
Помню, ещё до отъезда, на общеорганизационном сборе отряда СОП в универе, мой недоверчивый взгляд сразу упал на одну подозрительно восторженную первокурсницу по имени Танька. Почему столь неуважительно – «Танька»? Читайте дальше. Саша Герасимов пояснил тогда, она, несмотря на первый курс, настолько активна в работе СОПа, настолько деятельна, исполнительна и инициативна во всём, так рвётся в экспедицию, что не взять её в Висим просто невозможно.
– Хорошо, – говорю. – Убедил. Но на местности-то её смотрели?
– Да тянет, вроде бы, пыхтит, но тянет… – вздохнув, ответил Саня и озадаченно почесал в затылке. – К тому же, она уверяет, что какая-то разрядница.
Я критически оглядел её неспортивную фигурку, но промолчал: сам был на птичьих правах. Ладно, думаю, посмотрим на месте. Герасимов обрадовал, сообщив, что я буду в его опергруппе, однако озабоченно добавил: «Танька будет с нами». А четвертым членом нашего самого маленького по численности отряда в ту кампанию стал Лёха, тоже первокурсник – рослый, жилистый, никогда не унывающий, улыбчивый и немногословный парень. Намётанным глазом туриста я сразу же определил: вот с ним проблем не будет.
Ну, в добрый путь!
4
До Свердловска (ныне Екатеринбурга) добрались на поезде. Потом до Нижнего Тагила – на электричке. Нижний Тагил – классический центр «очень тяжёлой» промышленности и металлургии: серый, суровый, прокопчённый; и сосредоточенные выражения лиц его жителей походили на облик самого города. Благодаря таким городам была выиграна война. От него до Висима мы ехали по узкоколейке, напоминавшей детскую железную дорогу.
Висим – крупное село, воспетое Маминым-Сибиряком в повести «Три конца». Нам удалось посетить гордость села – музей писателя. Исторически село состояло из трёх «концов»: русского, «хохляцкого» и кержацкого. Понятно, что вихри времён постепенно размыли их самобытность. Но Висим не потерял своего колорита и солидности: добротные белёные дома под четырехскатными крышами, все, как один, с голубыми наличниками; по улицам неспешно бродили огромные мохнатые собаки... Когда-то там был один из первых заводов промышленников Демидовых, выдвиженцев Петра I. Сохранились даже остатки заводской плотины, которые послужили декорацией во время съёмок фильма «Демидовы».
В Висиме находилось управление одноименным заповедником, там работало несколько выпускников биофака КГУ. Мы остановились у землячки Ляйсан. В управлении нас временно оформили на должности лесников и после решения всех организационных вопросов направили в деревню Большие Галашки, до которой мы добирались по зимнику на мощных грузовиках с утеплённой будкой. Деревня, окольцованная суровой тайгой, стояла на реке Сулем и примыкала к границе заповедника. Своими размерами она оправдывала название – «Большие», однако большинство её домов пустовало.
С раннего утречка каждой из трёх опергрупп нашей дружины предстоял лыжный марш-бросок в свой сектор заповедника. Нам отвели северную часть его территории. До заимки лесников, где нам предстояло базироваться на время работы, было 25 километров. Нас ожидала неделя таёжной жизни.
Такое расстояние за день проходится спокойно, даже с учётом тропёжки глубокой таёжной снежной целины. У СОПовцев и туристов лыжная экипировка различалась. Мы, туристы, ходили в вибрамах, на которые надевались высокие капроновые бахилы до колен. Бахилы пристегивались к лыжам специальными пружинными креплениями. А дружинники – в валенках на обычных широких охотничьих лыжах, марки «Лесные», имевших простые ремённые крепления. Это и понятно: для туристов главное – маршрут, километраж, ногам должно быть легко. Туристские лыжи марок «Бескиды» или «Турист» были шире беговых, но гораздо уже охотничьих. Валенки туристы брали только для стоянок. СОПовцы же, как и охотники, обычно никуда не торопились – целью была работа, поэтому в вибрамах ноги могли быстро замерзнуть…
Вышли мы в серых сумерках. Морозец отмерил 25 градусов. Кругом – ели, хрустящий, девственно белый снег. Тропили по очереди. Девушку нашу, естественно, поставили в конец. Я был доволен: чем не поход? На мой взгляд, лыжный – самый спокойный вид туризма: дожди не портят настроение, ноги всегда сухие, лыжное размеренное «ширк-ширк, ширк-ширк» умиротворяет и навевает философские мысли. Ну, а морозец? Настройся сразу на него, экипируйся и дыши правильно – и всё будет в порядке.
Вся территория заповедника покрыта прекрасным хвойным лесом, расстилающимся по невысоким холмам зелёным ковром. Под выглянувшим утренним солнышком всё вокруг весело заискрилось, что ещё больше придало нам бодрости. Красота!
Вот только девушка наша стала регулярно отставать, хотя шла последней по уже пробитой лыжне. Говорю Саше и Лёхе: «Идите вперёд, нас особо не ждите, я за ней пригляжу. Если что – свистну». Когда авангард тропарей скрылся из виду, я оглянулся – Танька лежит. Подхожу к ней.
– Чего лежим? Загораем?
– Да нет, сейчас отдохну чуток.
– Вставай, вставай, лежать на снегу нельзя. Может, свистну мужикам, перекур организуем?
– Всё нормально, не надо, идём.
– Ну, хорошо, идём.
Прошли ещё немного. Хвать – Танька снова лежит да ещё и снег ест.
– Немедленно брось! – Строго прикрикнул я и свистнул ребятам.
Те «прискакали» назад.
– Открывай термос, – прошу Саню. – Пусть попьёт.
Перекусили. Снова двинулись в путь. И снова повторяется то же самое. А мы отмерили уже чуть больше половины пути. Солнце свалилось к закату.
– Опять разлеглась? Вставай! – прикрикнул я на Таньку.
И тут она шёпотом сказала то, отчего я чуть не сел рядом с ней в снег:
– Вообще-то у меня врожденный порок сердца… Только Саше не говори, пожалуйста.
– Ага, сейчас!
Я свистнул. Потом ещё и ещё. Недовольный Саша, вернувшись к нам, спросил:
– Ну, чего тут у вас опять?
Я доложил. Он минут пять молчал, сверля взглядом пенёк рядом с лыжнёй, будто внимательно его изучая.
– Экспедиция окончена. Кругом! Возвращаемся в Галашки, – вынес Саня свой вердикт.
– Не надо!!! Прошу тебя, Саша!!! Пожалуйста! Я дойду, дойду! – запричитала Танька.
Тут из-за ёлок показался Лёха. Узнав, в чём дело, он и сам чуть не заплакал.
– Может, дойдём? Всё-таки больше половины прошли… – робко промямлил я. – И как же работа?
Но решающим было слово руководителя. Герасимов молча сорвал с себя рюкзак. Потом с Таньки. Всё, что хоть сколько-нибудь весило, стало перекочёвывать в наши рюкзаки. Дёргая лямки, Саня яростно жестикулировал губами. Я без труда определил по ним знакомые выражения и обороты.
Наша «красавица», зажав волю в кулак, продолжила движение.
Стало смеркаться.
– Ну, что, Сань, скоро дойдём? – Спросил я. – Ты избушку-то найдёшь в темноте?
– Может, найду… А может, и не найду – чёрт его знает! – откликнулся ведущий.
Он любил держать народ в тонусе. Я замолчал. Оглядываться на Таньку не хотелось вообще.
Наконец-то, уже в темноте – хорошо хоть, светила полная луна – мы увидели маленькую избушку, притулившуюся под ёлками. Запас дров, слава Богу, был. Мы быстренько растопили печку, правда, она немного чадила, но это – ерунда. Благодатное тепло потихоньку стало заполнять небольшое пространство. Танька скромненько сидела в уголочке. Трепать языком почему-то совсем не хотелось – всё делалось молчком. Приготовили ужин, разделись, сели. Стало жарковато. «К приёму пищи приступить!»
«После сытного обеда, по закону Архимеда»… После марш-броска и нервных переживаний навалилась усталость. Но настроение поднялось. Развалившись на спальниках, раскинутых на нарах по обе стороны от стола, мы стали неспешно обсуждать планы на завтра. У Саши была подробная карта заповедника. В тусклом свете парафиновых свечей мы стали намечать на ней квадраты для посещения.
Танька решила сделать хоть что-нибудь полезное: убрать со стола, сполоснуть посуду, подмести пол. Мы не возражали. И увлёкшись обсуждением, не заметили, как она, собрав мусор, швырнула его в протопленную печку, а заслонка была уже закрыта. Саня подскочил, как ужаленный и, обжигаясь, выкрикивая что-то о необходимости дружбы головы с руками, начал выгребать мгновенно вспыхнувший на горячих углях мусор: угореть ночью совсем не хотелось.
Танька разревелась в голос. И Герасимов, утихомириваясь, сказал:
– У-у, а это надо было оставить дома!.. Отбой!
Но мы, засыпая, ещё слышали некоторое время горестные всхлипы.
5
Утро было солнечным, безветренным и морозным. Пока на печке, булькая, готовился завтрак – макароны с тушёнкой, сдобренные чесночком и лаврушкой – я решил выйти. Хотелось размяться, обтереться снежком, заодно и осмотреться.
Недалеко от избушки я заметил непонятный собачий след. Подмерзнув, заскочил обратно в ароматное тепло и сразу спросил:
– Сань, а что тут собачки бегают – село рядом какое?
– Ха! «Собачки»! – отозвался Герасимов. – Это волчий след. Их поголовье за последнее время немного выросло – прошлый год был сытным. Я уж не стал вам вчера говорить, что сразу заметил их присутствие рядом с нами. Не бойтесь, нападения волков на человека в этих местах крайне редки, только в самые голодные годы, к тому же, нас, всё-таки, четверо. Но всё равно серые, повинуясь инстинкту, почти всю дорогу нас вчера сопровождали, особенно когда наша «красавица» решила спинкой снежок подавить!
Танька, вздрогнув, подняла на нас полные тревоги глаза.
Тем временем поспел завтрак. Саня, раскладывая варево по мискам, продолжил:
– Ну, что, народ, с чего начнём работу?
Воцарилось молчание: ясно, что оставлять Таньку в избушке одну было нежелательным. Первым подал голос я.
– Разумею так. Вы с Лёхой пойдёте: ты – командир, а Лёхе – расти. Я – человек «приблудный», поэтому останусь с Таней.
Ребята согласились. Танька не проронила ни слова.
Проводив наших орлов и подбросив дровишек в печку, я уселся за стол напротив своей подопечной:
– Ну, что, подруга, давай знакомиться ближе: кто ты, откуда, как сдала первую сессию? Как вообще себя чувствуешь?..
И покатился разговор. Она – из Казахстана. Скрыла от матери, что решила поступать на «Охрану природы» – мать была против: специальность ей казалась какой-то непонятной. Потом, когда после Танькиного удачного поступления всё открылось, возмущённая мама порывалась ехать в Казань, чтобы забрать документы. Но потом смирилась. И воодушевлённая победой Танька с энтузиазмом стала работать ещё и в СОПе.
– Слушай, птица, – строго обратился я к девушке. – Но как тебе в голову пришло скрыть порок сердца? Это же преступление, чёрт возьми! О себе, о других ты подумала?! Это же подсудное дело!
Ответ обескуражил.
– Мечта моей жизни – побывать в заповеднике на Байкале. Без Висима туда не попадёшь. Я должна была себя зарекомендовать в настоящем деле! Я разобьюсь в лепёшку, но в дружину на Байкал попаду! Да!!!
«Уже зарекомендовала!» – подумал я, но в ответ промолчал. Пусть сами СОПовцы с ней разбираются, я – человек пришлый.
Однако Таньке было интересно послушать меня: всё же, я – выпускник-пятикурсник. День впереди был долгим, и я, прихлебывая обжигающий губы ароматный чаёк, неспешно начал своё повествование. Вспомнил и практики на учебных станциях университета, и колхозы, и сессии, и туристские походы, и студенческие приколы.
Вспомнил, как мы встречали новый 1981 год в нашей общаге на Красной Позиции. Продолжая традиции студентов средневековья, «если насмерть не убьюсь на хмельной пирушке…», народ под бой курантов стал колотить в коридоре пустые бутылки об стены и потолок. Потом ходили по битому стеклу, как по ковру, под возмущённые вопли комендантши Флюры Шагеевны.
Если дружинники брали след, а зимой по лыжне сделать это очень просто, начиналось преследование браконьера. По протоптанной лыжне его настигали довольно быстро, тем более, охотники были, как правило, гораздо старше СОПовцев. И снегоходов тогда ещё практически не имели. Как только до преследуемого оставалось совсем близко – это угадывалось по свежести лыжного следа, по лаю собаки, – группа преследования раздваивалась: происходил охват для задержания. Браконьер должен был понимать, и в этом заключался принципиальный момент, что он под дополнительным скрытым наблюдением. Это предостерегало его от необдуманных, импульсивных действий.
Саня Герасимов даже похвастался: годом раньше ему с двумя дружинниками, удалось изъять сразу два ружья, хотя группы прикрытия не было совсем. Просто он артистически делал знаки в сторону якобы тех, кто его страховал из-за деревьев, чем и сбил с толку нарушителей.
Сами понимаете, когда происходил непосредственный контакт с браконьером, начиналась психологическая дуэль – жёсткое противостояние выдержек, характеров, убеждений. Тут всё зависело от настроя и намерений идти до конца. Собака охотника, конечно же, создавала дополнительную сложность, однако, как ни странно, псы обычно смирнели, да и хозяин не хотел рисковать: в натравленную собаку разрешалось стрелять.
Кто был более уязвим в подобной ситуации? Безусловно, браконьер: он осознанно нарушал существующий порядок, закон был на стороне СОПовцев, что прибавляло им уверенности. Но охотники – народ суровый, не робкого десятка, поэтому конфликты иногда случались очень серьезные. Однако, слава Богу, наших дружинников, по крайней мере, пока я учился, проносило мимо самых негативных сценариев развития событий.
Да уж… Вспоминаю это, пишу, и хочется ещё раз снять шляпу перед простыми студентами, готовыми жертвовать собой ради благородной идеи, а не корысти.
Итак, нам предстоял путь в Висимский заповедник. Небольшой отряд СОПовцев разбили на три оперативные группы. Как нам объяснили командир Герасимов, его заместитель Слава Муратов и комиссар дружины Лена Рощина, это нужно для того, чтобы группы смогли полностью охватить небольшую территорию заповедника – всего 13 000 гектаров, которые условно делились на три сектора.
По завершению работы в заповеднике наши СОПовцы планировали принять участие во всесоюзной студенческой конференции дружин охраны природы, которая должна была состояться в Свердловске на базе Уральского лесотехнического института. А для того, чтобы потом профессионально описать нашу «одиссею», в число дружинников включили студентку филфака Лену Кащееву, учившуюся на кафедре журналистики.
Да, девчонки тоже входили в состав дружины. Куда ж без них? Понятно, в оперативные рейды на браконьеров их не брали, но, как и в любом деле, без женщин было не обойтись. Недаром поётся в песне, везде нужен «хозяйский, зоркий женский глаз». СОПовки обычно брали на себя общеорганизационную деятельность и просветительскую работу. И уж если студентка сознательно шла в СОП, значит, она настоящая фанатка избранного дела. Например, комиссар Лена Рощина – хрупкая, невысокая девушка с огромными глазами, а в работе проявлялась «железной леди». Разделив девчонок по опергруппам, мы постарались облегчить участь представительниц прекрасной половины. Тем не менее, наши красавицы лёгкой жизни себе не искали.
Помню, ещё до отъезда, на общеорганизационном сборе отряда СОП в универе, мой недоверчивый взгляд сразу упал на одну подозрительно восторженную первокурсницу по имени Танька. Почему столь неуважительно – «Танька»? Читайте дальше. Саша Герасимов пояснил тогда, она, несмотря на первый курс, настолько активна в работе СОПа, настолько деятельна, исполнительна и инициативна во всём, так рвётся в экспедицию, что не взять её в Висим просто невозможно.
– Хорошо, – говорю. – Убедил. Но на местности-то её смотрели?
– Да тянет, вроде бы, пыхтит, но тянет… – вздохнув, ответил Саня и озадаченно почесал в затылке. – К тому же, она уверяет, что какая-то разрядница.
Я критически оглядел её неспортивную фигурку, но промолчал: сам был на птичьих правах. Ладно, думаю, посмотрим на месте. Герасимов обрадовал, сообщив, что я буду в его опергруппе, однако озабоченно добавил: «Танька будет с нами». А четвертым членом нашего самого маленького по численности отряда в ту кампанию стал Лёха, тоже первокурсник – рослый, жилистый, никогда не унывающий, улыбчивый и немногословный парень. Намётанным глазом туриста я сразу же определил: вот с ним проблем не будет.
Ну, в добрый путь!
4
До Свердловска (ныне Екатеринбурга) добрались на поезде. Потом до Нижнего Тагила – на электричке. Нижний Тагил – классический центр «очень тяжёлой» промышленности и металлургии: серый, суровый, прокопчённый; и сосредоточенные выражения лиц его жителей походили на облик самого города. Благодаря таким городам была выиграна война. От него до Висима мы ехали по узкоколейке, напоминавшей детскую железную дорогу.
Висим – крупное село, воспетое Маминым-Сибиряком в повести «Три конца». Нам удалось посетить гордость села – музей писателя. Исторически село состояло из трёх «концов»: русского, «хохляцкого» и кержацкого. Понятно, что вихри времён постепенно размыли их самобытность. Но Висим не потерял своего колорита и солидности: добротные белёные дома под четырехскатными крышами, все, как один, с голубыми наличниками; по улицам неспешно бродили огромные мохнатые собаки... Когда-то там был один из первых заводов промышленников Демидовых, выдвиженцев Петра I. Сохранились даже остатки заводской плотины, которые послужили декорацией во время съёмок фильма «Демидовы».
В Висиме находилось управление одноименным заповедником, там работало несколько выпускников биофака КГУ. Мы остановились у землячки Ляйсан. В управлении нас временно оформили на должности лесников и после решения всех организационных вопросов направили в деревню Большие Галашки, до которой мы добирались по зимнику на мощных грузовиках с утеплённой будкой. Деревня, окольцованная суровой тайгой, стояла на реке Сулем и примыкала к границе заповедника. Своими размерами она оправдывала название – «Большие», однако большинство её домов пустовало.
С раннего утречка каждой из трёх опергрупп нашей дружины предстоял лыжный марш-бросок в свой сектор заповедника. Нам отвели северную часть его территории. До заимки лесников, где нам предстояло базироваться на время работы, было 25 километров. Нас ожидала неделя таёжной жизни.
Такое расстояние за день проходится спокойно, даже с учётом тропёжки глубокой таёжной снежной целины. У СОПовцев и туристов лыжная экипировка различалась. Мы, туристы, ходили в вибрамах, на которые надевались высокие капроновые бахилы до колен. Бахилы пристегивались к лыжам специальными пружинными креплениями. А дружинники – в валенках на обычных широких охотничьих лыжах, марки «Лесные», имевших простые ремённые крепления. Это и понятно: для туристов главное – маршрут, километраж, ногам должно быть легко. Туристские лыжи марок «Бескиды» или «Турист» были шире беговых, но гораздо уже охотничьих. Валенки туристы брали только для стоянок. СОПовцы же, как и охотники, обычно никуда не торопились – целью была работа, поэтому в вибрамах ноги могли быстро замерзнуть…
Вышли мы в серых сумерках. Морозец отмерил 25 градусов. Кругом – ели, хрустящий, девственно белый снег. Тропили по очереди. Девушку нашу, естественно, поставили в конец. Я был доволен: чем не поход? На мой взгляд, лыжный – самый спокойный вид туризма: дожди не портят настроение, ноги всегда сухие, лыжное размеренное «ширк-ширк, ширк-ширк» умиротворяет и навевает философские мысли. Ну, а морозец? Настройся сразу на него, экипируйся и дыши правильно – и всё будет в порядке.
Вся территория заповедника покрыта прекрасным хвойным лесом, расстилающимся по невысоким холмам зелёным ковром. Под выглянувшим утренним солнышком всё вокруг весело заискрилось, что ещё больше придало нам бодрости. Красота!
Вот только девушка наша стала регулярно отставать, хотя шла последней по уже пробитой лыжне. Говорю Саше и Лёхе: «Идите вперёд, нас особо не ждите, я за ней пригляжу. Если что – свистну». Когда авангард тропарей скрылся из виду, я оглянулся – Танька лежит. Подхожу к ней.
– Чего лежим? Загораем?
– Да нет, сейчас отдохну чуток.
– Вставай, вставай, лежать на снегу нельзя. Может, свистну мужикам, перекур организуем?
– Всё нормально, не надо, идём.
– Ну, хорошо, идём.
Прошли ещё немного. Хвать – Танька снова лежит да ещё и снег ест.
– Немедленно брось! – Строго прикрикнул я и свистнул ребятам.
Те «прискакали» назад.
– Открывай термос, – прошу Саню. – Пусть попьёт.
Перекусили. Снова двинулись в путь. И снова повторяется то же самое. А мы отмерили уже чуть больше половины пути. Солнце свалилось к закату.
– Опять разлеглась? Вставай! – прикрикнул я на Таньку.
И тут она шёпотом сказала то, отчего я чуть не сел рядом с ней в снег:
– Вообще-то у меня врожденный порок сердца… Только Саше не говори, пожалуйста.
– Ага, сейчас!
Я свистнул. Потом ещё и ещё. Недовольный Саша, вернувшись к нам, спросил:
– Ну, чего тут у вас опять?
Я доложил. Он минут пять молчал, сверля взглядом пенёк рядом с лыжнёй, будто внимательно его изучая.
– Экспедиция окончена. Кругом! Возвращаемся в Галашки, – вынес Саня свой вердикт.
– Не надо!!! Прошу тебя, Саша!!! Пожалуйста! Я дойду, дойду! – запричитала Танька.
Тут из-за ёлок показался Лёха. Узнав, в чём дело, он и сам чуть не заплакал.
– Может, дойдём? Всё-таки больше половины прошли… – робко промямлил я. – И как же работа?
Но решающим было слово руководителя. Герасимов молча сорвал с себя рюкзак. Потом с Таньки. Всё, что хоть сколько-нибудь весило, стало перекочёвывать в наши рюкзаки. Дёргая лямки, Саня яростно жестикулировал губами. Я без труда определил по ним знакомые выражения и обороты.
Наша «красавица», зажав волю в кулак, продолжила движение.
Стало смеркаться.
– Ну, что, Сань, скоро дойдём? – Спросил я. – Ты избушку-то найдёшь в темноте?
– Может, найду… А может, и не найду – чёрт его знает! – откликнулся ведущий.
Он любил держать народ в тонусе. Я замолчал. Оглядываться на Таньку не хотелось вообще.
Наконец-то, уже в темноте – хорошо хоть, светила полная луна – мы увидели маленькую избушку, притулившуюся под ёлками. Запас дров, слава Богу, был. Мы быстренько растопили печку, правда, она немного чадила, но это – ерунда. Благодатное тепло потихоньку стало заполнять небольшое пространство. Танька скромненько сидела в уголочке. Трепать языком почему-то совсем не хотелось – всё делалось молчком. Приготовили ужин, разделись, сели. Стало жарковато. «К приёму пищи приступить!»
«После сытного обеда, по закону Архимеда»… После марш-броска и нервных переживаний навалилась усталость. Но настроение поднялось. Развалившись на спальниках, раскинутых на нарах по обе стороны от стола, мы стали неспешно обсуждать планы на завтра. У Саши была подробная карта заповедника. В тусклом свете парафиновых свечей мы стали намечать на ней квадраты для посещения.
Танька решила сделать хоть что-нибудь полезное: убрать со стола, сполоснуть посуду, подмести пол. Мы не возражали. И увлёкшись обсуждением, не заметили, как она, собрав мусор, швырнула его в протопленную печку, а заслонка была уже закрыта. Саня подскочил, как ужаленный и, обжигаясь, выкрикивая что-то о необходимости дружбы головы с руками, начал выгребать мгновенно вспыхнувший на горячих углях мусор: угореть ночью совсем не хотелось.
Танька разревелась в голос. И Герасимов, утихомириваясь, сказал:
– У-у, а это надо было оставить дома!.. Отбой!
Но мы, засыпая, ещё слышали некоторое время горестные всхлипы.
5
Утро было солнечным, безветренным и морозным. Пока на печке, булькая, готовился завтрак – макароны с тушёнкой, сдобренные чесночком и лаврушкой – я решил выйти. Хотелось размяться, обтереться снежком, заодно и осмотреться.
Недалеко от избушки я заметил непонятный собачий след. Подмерзнув, заскочил обратно в ароматное тепло и сразу спросил:
– Сань, а что тут собачки бегают – село рядом какое?
– Ха! «Собачки»! – отозвался Герасимов. – Это волчий след. Их поголовье за последнее время немного выросло – прошлый год был сытным. Я уж не стал вам вчера говорить, что сразу заметил их присутствие рядом с нами. Не бойтесь, нападения волков на человека в этих местах крайне редки, только в самые голодные годы, к тому же, нас, всё-таки, четверо. Но всё равно серые, повинуясь инстинкту, почти всю дорогу нас вчера сопровождали, особенно когда наша «красавица» решила спинкой снежок подавить!
Танька, вздрогнув, подняла на нас полные тревоги глаза.
Тем временем поспел завтрак. Саня, раскладывая варево по мискам, продолжил:
– Ну, что, народ, с чего начнём работу?
Воцарилось молчание: ясно, что оставлять Таньку в избушке одну было нежелательным. Первым подал голос я.
– Разумею так. Вы с Лёхой пойдёте: ты – командир, а Лёхе – расти. Я – человек «приблудный», поэтому останусь с Таней.
Ребята согласились. Танька не проронила ни слова.
Проводив наших орлов и подбросив дровишек в печку, я уселся за стол напротив своей подопечной:
– Ну, что, подруга, давай знакомиться ближе: кто ты, откуда, как сдала первую сессию? Как вообще себя чувствуешь?..
И покатился разговор. Она – из Казахстана. Скрыла от матери, что решила поступать на «Охрану природы» – мать была против: специальность ей казалась какой-то непонятной. Потом, когда после Танькиного удачного поступления всё открылось, возмущённая мама порывалась ехать в Казань, чтобы забрать документы. Но потом смирилась. И воодушевлённая победой Танька с энтузиазмом стала работать ещё и в СОПе.
– Слушай, птица, – строго обратился я к девушке. – Но как тебе в голову пришло скрыть порок сердца? Это же преступление, чёрт возьми! О себе, о других ты подумала?! Это же подсудное дело!
Ответ обескуражил.
– Мечта моей жизни – побывать в заповеднике на Байкале. Без Висима туда не попадёшь. Я должна была себя зарекомендовать в настоящем деле! Я разобьюсь в лепёшку, но в дружину на Байкал попаду! Да!!!
«Уже зарекомендовала!» – подумал я, но в ответ промолчал. Пусть сами СОПовцы с ней разбираются, я – человек пришлый.
Однако Таньке было интересно послушать меня: всё же, я – выпускник-пятикурсник. День впереди был долгим, и я, прихлебывая обжигающий губы ароматный чаёк, неспешно начал своё повествование. Вспомнил и практики на учебных станциях университета, и колхозы, и сессии, и туристские походы, и студенческие приколы.
Вспомнил, как мы встречали новый 1981 год в нашей общаге на Красной Позиции. Продолжая традиции студентов средневековья, «если насмерть не убьюсь на хмельной пирушке…», народ под бой курантов стал колотить в коридоре пустые бутылки об стены и потолок. Потом ходили по битому стеклу, как по ковру, под возмущённые вопли комендантши Флюры Шагеевны.