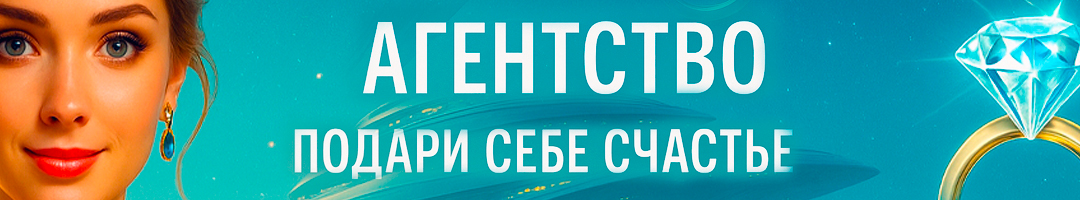— Вы не понимаете, Брок. Сила — это молот. Она ломает, но оставляет слишком много шума и ненужных обломков. Она пугает мелкую дичь, но спугивает крупного зверя. А мне нужен скальпель. Тонкий, точный инструмент, который вскроет гнойник, не задев здоровых тканей.
Он сделал паузу, давая словам впитаться в непонятливый разум Брока.
— Вы говорите, Каламуш бесполезен. Вы ошибаетесь. Он никогда не был так полезен, как сейчас. Сломленный, униженный, потерявший всё… он будет цепляться за любую возможность вернуть себе хотя бы тень былой власти. Страх и отчаяние сделают его нашими ушами и глазами в спальнях. Он принесёт нам настоящего вора на блюдечке. Без единого крика.
Он снова взял в руки ножичек, и его тонкие пальцы едва заметно погладили холодный металл.
— Приведите ко мне воспитанника номер семьдесят три.
Брок на мгновение замер, его лицо выразило тупое недоумение. Он открыл было рот, чтобы возразить, но, встретив холодный, ничего не выражающий взгляд Феодора, лишь коротко кивнул и, развернувшись, вышел.
Оставшись один, Феодор отложил ножичек и брусок, идеально выровняв их на краю стола. Он ждал. Его взгляд был устремлён в темноту за окном, но видел он не снег, а идеальную, выверенную схему наказания, которой он так гордился. Система карцера, его главное творение, была не просто ямой. Она была инструментом. Инструментом с двумя режимами работы.
Был режим стандартный, долгий и изматывающий, предназначенный для таких, как Щуплый. «Исправление». Наказанный получал минимальную, но достаточную для выживания порцию хлеба и воды. Его волю ломали не пыткой, а монотонностью, темнотой и холодной, безразличной предсказуемостью. Цель — подчинение, а не уничтожение. Именно поэтому Каламуш, проведя в карцере почти два периода, хоть и был сломлен, но остался жив.
И был режим особый. Тот, который Феодор применил к аристократу. Целенаправленная, быстрая и изящная ломка. Ежедневные обливания ледяной водой были не частью устава, а его личной инициативой. Рискованной, но, как он считал, эффективной. Цель была не в исправлении. Цель была в том, чтобы сломать волю быстро, пока она не успела окрепнуть.
Дверь снова отворилась, прерывая его размышления. Брок грубо втолкнул в кабинет Щуплого и остался стоять у порога, скрестив руки на могучей груди.
Это была лишь тень того наглого, уверенного в себе хищника, который ещё несколько седмиц назад держал в страхе всю спальню. Мальчишка был худ, его кожа приобрела нездоровый, сероватый оттенок, а глаза, глубоко запавшие, лихорадочно бегали по комнате, боясь остановиться на лице Главного Смотрителя. Его воля была не просто сломлена. Она была стёрта.
— Воспитанник номер семьдесят три, — начал Феодор своим сухим, безразличным голосом. — Ты знаешь, почему ты здесь.
Щуплый вздрогнул и торопливо закивал, его губы дрожали.
— Я не… я не крал, господин Главный Смотритель! Клянусь Первыми, меня подставили!
— Меня не интересуют твои клятвы, — оборвал его Феодор. — Меня интересует порядок. А ты его нарушил. По закону, твоё следующее «исправление» будет последним.
Паника в глазах мальчишки переросла в животный ужас, и он, не выдержав, рухнул на колени.
— Нет! Прошу вас! Всё что угодно!
Феодор выдержал паузу, давая страху полностью завладеть им.
— Однако, — продолжил он, и его голос стал почти вкрадчивым, — я могу проявить милость. Я могу вернуть тебя в спальню. Могу даже распорядиться, чтобы твоя порция стала немного… больше. И чтобы надзиратели закрывали глаза на некоторые твои мелкие шалости. Ты снова сможешь почувствовать себя сильным.
Надежда, отчаянная и жалкая, блеснула в глазах Щуплого.
— Что… что я должен делать?
— Ничего особенного, — Феодор откинулся в кресле. — Просто смотреть. И слушать. И обо всём, что покажется тебе необычным, докладывать смотрителю Броку. О каждом тайном разговоре. О каждом странном предмете. О каждом шёпоте после отбоя. Ты станешь моими глазами. В обмен на мою защиту.
Щуплый, не раздумывая ни секунды, начал торопливо кивать, его лицо исказилось в подобострастной, угодливой гримасе.
— Да, господин Главный Смотритель! Конечно! Я всё… я буду…
— Довольно, — прервал его Феодор с брезгливостью. — Можешь идти. И помни. Один неверный шаг, одна попытка обмануть меня — и ты вернёшься в карцер. Навсегда.
Щуплый, пятясь и кланяясь, выскользнул за дверь. Брок проводил его взглядом, полным презрения, и повернулся к Феодору.
— Он слабак. Предаст при первой же возможности.
Феодор позволил себе едва заметную, холодную улыбку. Он медленно взял в руки серебряный ножичек и снова провёл по его лезвию замшей.
— Конечно, предаст, — тихо сказал он, не глядя на Брока. — Именно поэтому он и полезен. Он будет докладывать мне. И будет пытаться докладывать на меня тому, кто, как он думает, сильнее. И по тому, куда именно потечёт гной, я и вычислю свой настоящий нарыв. Это не молот, Брок. Это — скальпель. А теперь идите. И проследите, чтобы наш новый инструмент получил свою первую награду. Лишний кусок хлеба за ужином, например.
Брок вышел, и дверь за ним закрылась с глухим стуком, который, казалось, поглотила вязкая тишина кабинета. Феодор остался один. Он не двигался, продолжая смотреть на то место, где только что стоял его помощник. На его тонких, бескровных губах играла едва заметная, холодная усмешка. Молот был груб, предсказуем и абсолютно управляем. Теперь у него был и скальпель — дрожащий, отчаявшийся, готовый на всё ради малейшей подачки. Инструменты были готовы.
Медленно поднявшись, он подошёл к окну. За толстым, покрытым ледяными узорами стеклом выл ветер, закручивая снежные вихри во дворе. Глубокий Сон. Идеальное время. Холод сковывал не только землю, но и волю. Но ждать, пока его новый инструмент, Каламуш, принесёт ему что-то ценное, было бы ошибкой. Это могло занять седмицы, а его терпение, отточенное годами бюрократической службы, имело свои пределы, когда речь шла о личном контроле.
Нет. Ему нужен был катализатор. Событие, которое встряхнёт их хрупкий мирок, заставит их совершать ошибки. Он снова мысленно разложил на доске фигуры. Аристократ — мозг, но сломленный виной. Дикарь — мышцы, но ослеплённые примитивной яростью. И девочка. Серая, незаметная пешка, которую дикарь, судя по всему, пытается сделать первым членом своей жалкой шайки.
«Они думают, что умнее. Но они — просто дети. Ими движут примитивные реакции. Привязанность. А любая привязанность — это уязвимость. Трещина в броне, которую нужно расширить».
Он повернулся от окна, и его взгляд нашёл то, что он искал. План родился мгновенно, безупречный в своей холодной, безжалостной логике.
«Нужно применить давление к самому слабому звену — к девочке. Не молотом. Скальпелем. Лёгкий, точный надрез, и их хрупкий союз потеряет структурную целостность. Дикарь впадёт в слепую ярость и совершит ошибку. Аристократ, его “мозг”, окончательно сломается от страха. И тогда я их возьму. Тёплыми».
Движения Феодора стали медленными, почти торжествующими. Он подошёл к высокому, тёмному шкафу, занимавшему целую стену, — его личному архиву, библиотеке сломанных судеб. Его тонкие, сухие пальцы скользнули по корешкам одинаковых серых папок, не задерживаясь. Он не искал — он знал. Его палец остановился на одной из них. Тонкой, почти пустой.
Он достал её и вернулся за стол. Положил перед собой, на мгновение задержав на ней свой блёклый взгляд. Затем, с предвкушением хирурга, готовящегося к точной операции, открыл. На сером, казённом листе корявым почерком было выведено: «Лэя Сабелдир. Номер двести восемьдесят четыре». Ниже — несколько скупых строк… Феодор перечитал последнюю: «Особых талантов не выявлено». И на его губах появилась едва заметная, хищная улыбка стратега, нашедшего идеальный ход.
Миновал лишь первый день Глубокого Сна, а зима уже успела войти в свою самую глухую, мёртвую фазу. Холод просочился внутрь, превратив грязный снег во дворе в твёрдый, звенящий наст и выморозив остатки тепла из душ детей.
Лэя скользила сквозь утреннюю толпу в главном коридоре, как маленькая серая тень. Её худенькое, почти невесомое тело легко проскальзывало в малейшие просветы между другими детьми. Она двигалась вдоль стен, используя большие, шумные группы как движущееся прикрытие, её взгляд сканировал не лица, а тени, ища в них укрытие и опасность.
Внезапно гул, наполнявший коридор, захлебнулся и стих. Он не просто затих — он рухнул, словно подкошенный, сменившись вязкой, звенящей пустотой. Сотни голов, как по команде, повернулись в одну сторону. Лэя, спрятавшись за спиной какого-то рослого мальчика, тоже посмотрела.
Из караульного помещения вышел смотритель Брок. Его тяжёлые, подбитые железом сапоги гулко, размеренно били по каменному полу. Но он был не один. За его широкой спиной, как побитая, но вернувшаяся в чужую свору собака, плёлся Щуплый.
При виде него ужас ледяной иглой вонзился Лэе в солнечное сплетение, заставив её замереть на месте. В её детском сознании, где законы приюта были абсолютны, это было невозможно. «Не может быть… Это призрак…» — пронеслось в её голове. Она знала, все знали: из карцера после такого долгого срока не возвращаются. Это было место, куда уходят навсегда.
Но он был здесь. Худ, бледен до синевы, с тёмными провалами под глазами, но живой. И на краткий, ослепительный миг её охватило наивное, детское облегчение. «Он выжил. Значит, здесь не всегда убивают. Значит, есть шанс…»
Надежда рухнула в тот же миг, как и родилась. Брок, доведя своего подопечного до центра коридора, остановился. Он не сказал ни слова. Он просто бросил на Щуплoго один-единственный, короткий, властный взгляд — взгляд хозяина, отдающего безмолвный приказ своей собаке. И ледяная, тошнотворная ясность обожгла сознание Лэи. Он не просто выжил. Он сдался. Он заключил сделку. Он стал их глазами.
Её собственный страх утонул в холодной, ядовитой мысли, которая родилась в глубине сознания с пугающей, неотвратимой ясностью: «Тот чердак. Та встреча. Мальчики… И теперь всё стало хуже. У Щуплого глаза повсюду. Он смотрит. Это из-за меня…».
Её взгляд инстинктивно метнулся в толпу, ища знакомые фигуры. Она нашла Вайрэка. Она ожидала увидеть на его лице холодный триумф, удовлетворение от поверженного врага. Но вместо этого увидела, как его лицо исказилось в брезгливой гримасе, словно он увидел что-то гниющее. Вайрэк смотрел на Щуплого не как на врага, а как на уродливое, ходячее последствие своего собственного плана. Он сделал едва заметный шаг назад, словно боясь испачкаться. «Он боится не его, — с удивлением поняла Лэя. — Он боится себя».
Затем она нашла Ирвуда. Он стоял, прислонившись к противоположной стене, и его тело было напряжено, как сжатая пружина. Он не смотрел на Щуплого. Его тяжёлый, ледяной взгляд был направлен прямо на неё. В его глазах не было ни поддержки, ни сочувствия. Только холодная, безмолвная ярость зверя, чью территорию посмели осквернить. Она видела лишь то, что было на поверхности: холодную, безмолвную ярость зверя, чью территорию посмели осквернить. От этой дикой, неприкаянной решимости в его взгляде у неё по спине пробежал холодок, такой же липкий и ледяной, как от вида вернувшегося призрака Щуплого.
Брок, удовлетворённый произведённым эффектом, развернулся и ушёл, оставив Щуплого одного посреди мёртвой тишины. Вожак, который ещё недавно был королём этого коридора, теперь стоял, опустив голову, и не смел поднять глаз, чувствуя на себе сотни испуганных и ненавидящих взглядов. Представление было окончено. Новый, уродливый порядок вступил в силу.
С возвращением Щуплого страх перестал быть редким, острым приступом — теперь он стал постоянным, удушающим фоном. Он висел в спёртом воздухе коридоров, сквозил в боязливых перешёптываниях и заставлял детей инстинктивно вжимать головы в плечи. Из окна своего кабинета Главный Смотритель Феодор с холодным, отстранённым удовлетворением наблюдал за плодами своего решения. Он видел, как рухнула хрупкая иерархия, как дети теперь избегают друг друга, боясь сказать лишнее слово. Он видел, как Щуплый, словно призрак, бродит среди них — живое, ходячее напоминание о том, что у стен есть уши, а у милости — своя цена.
Прошло несколько дней. В безупречно упорядоченном мире Главного Смотрителя, где каждая вещь знала своё место, а каждый звук был предсказуем, царила стерильная тишина. За высоким, покрытым ледяными узорами окном выл ветер, но толстое стекло превращало его яростный голос в глухой, едва различимый гул. В камине ровно, почти беззвучно, горели поленья, уложенные с геометрической точностью. Их сухое тепло едва справлялось с холодом, сочившимся от каменных стен.
Феодор сидел за своим массивным дубовым столом. Перед ним лежали первые доклады, записанные Броком со слов Щуплого — несколько листов дешёвого пергамента, исписанных грубым, солдатским почерком. Главный Смотритель скользнул по ним взглядом, полным брезгливого, почти физического отвращения, как хирург смотрит на грязный, заржавевший инструмент.
«Мусор, — пронеслось в его голове. — Он приносит мне мусор, потому что ищет не там. Он слеп».
Движения его были медленными, выверенными. Он сдвинул доклады на самый край стола, идеально выровняв их по линии полированного дерева. «Брок — это молот, — с холодным презрением подумал Феодор. — Грубый, предсказуемый и абсолютно управляемый. Но молотом вскрывают сундуки, а не души». Он взял с подставки свой серебряный ножичек для бумаг и кусочек мягкой замши, начав медленно, с наслаждением, полировать его безупречно чистое лезвие. «Теперь пришло время для скальпеля».
Он дёрнул за засаленный шнур колокольчика. Почти сразу дверь бесшумно отворилась, и в кабинет вошёл Брок.
— Господин Главный Смотритель, — пробасил он.
Феодор не поднял головы, продолжая своё занятие.
— Наш «инструмент» бесполезен, Брок, — сказал он своим сухим, шелестящим голосом. — Он пытается вскрыть шкатулку молотом. Пришло время навести его на замочную скважину.
Он наконец поднял свои блёклые, ничего не выражающие глаза. Его анализ был завершён, картина обрела строгую, безупречную логику. «Аристократ сломлен виной. Дикарь ослеплён примитивным инстинктом защиты. Девочка — их общая слабость. Трещина в броне. Нужно лишь немного надавить, и вся конструкция рухнет».
— Передайте воспитаннику номер семьдесят три, — он намеренно не называл Щуплого по имени, — что с этой минуты его единственная цель — воспитанница номер двести восемьдесят четыре. Лэя Сабелдир. Пусть следит за каждым её шагом, каждым вздохом. Мне нужен рычаг. Пусть найдёт его.
Брок вышел из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Оказавшись в холодном, гулком коридоре, он на мгновение остановился. На его грубом, обветренном лице отразилось презрение. «Девочка? Он хочет травить девчонку? Вместо того чтобы просто сломать дикаря... Игры. Бесполезные, бабские игры. Но приказ есть приказ».
Он нашёл Щуплого там, где и ожидал — в сыром, пахнущем плесенью коридоре у входа в подвалы. Это было его новое логово, место, где он мог чувствовать себя в безопасности под крылом своих новых хозяев.
Брок навис над ним, и его тень полностью поглотила съёжившуюся фигурку. Его голос был низким, угрожающим рокотом, лишённым всякой фальши.
— У тебя новое задание. Забудешь обо всех. Теперь твоя цель — девчонка. Лэя Сабелдир. Ходи за ней тенью. Слушай, о чём говорит. Смотри, куда ходит. Мне нужно знать о ней всё.
Он сделал паузу, давая словам впитаться в непонятливый разум Брока.
— Вы говорите, Каламуш бесполезен. Вы ошибаетесь. Он никогда не был так полезен, как сейчас. Сломленный, униженный, потерявший всё… он будет цепляться за любую возможность вернуть себе хотя бы тень былой власти. Страх и отчаяние сделают его нашими ушами и глазами в спальнях. Он принесёт нам настоящего вора на блюдечке. Без единого крика.
Он снова взял в руки ножичек, и его тонкие пальцы едва заметно погладили холодный металл.
— Приведите ко мне воспитанника номер семьдесят три.
Брок на мгновение замер, его лицо выразило тупое недоумение. Он открыл было рот, чтобы возразить, но, встретив холодный, ничего не выражающий взгляд Феодора, лишь коротко кивнул и, развернувшись, вышел.
Оставшись один, Феодор отложил ножичек и брусок, идеально выровняв их на краю стола. Он ждал. Его взгляд был устремлён в темноту за окном, но видел он не снег, а идеальную, выверенную схему наказания, которой он так гордился. Система карцера, его главное творение, была не просто ямой. Она была инструментом. Инструментом с двумя режимами работы.
Был режим стандартный, долгий и изматывающий, предназначенный для таких, как Щуплый. «Исправление». Наказанный получал минимальную, но достаточную для выживания порцию хлеба и воды. Его волю ломали не пыткой, а монотонностью, темнотой и холодной, безразличной предсказуемостью. Цель — подчинение, а не уничтожение. Именно поэтому Каламуш, проведя в карцере почти два периода, хоть и был сломлен, но остался жив.
И был режим особый. Тот, который Феодор применил к аристократу. Целенаправленная, быстрая и изящная ломка. Ежедневные обливания ледяной водой были не частью устава, а его личной инициативой. Рискованной, но, как он считал, эффективной. Цель была не в исправлении. Цель была в том, чтобы сломать волю быстро, пока она не успела окрепнуть.
Дверь снова отворилась, прерывая его размышления. Брок грубо втолкнул в кабинет Щуплого и остался стоять у порога, скрестив руки на могучей груди.
Это была лишь тень того наглого, уверенного в себе хищника, который ещё несколько седмиц назад держал в страхе всю спальню. Мальчишка был худ, его кожа приобрела нездоровый, сероватый оттенок, а глаза, глубоко запавшие, лихорадочно бегали по комнате, боясь остановиться на лице Главного Смотрителя. Его воля была не просто сломлена. Она была стёрта.
— Воспитанник номер семьдесят три, — начал Феодор своим сухим, безразличным голосом. — Ты знаешь, почему ты здесь.
Щуплый вздрогнул и торопливо закивал, его губы дрожали.
— Я не… я не крал, господин Главный Смотритель! Клянусь Первыми, меня подставили!
— Меня не интересуют твои клятвы, — оборвал его Феодор. — Меня интересует порядок. А ты его нарушил. По закону, твоё следующее «исправление» будет последним.
Паника в глазах мальчишки переросла в животный ужас, и он, не выдержав, рухнул на колени.
— Нет! Прошу вас! Всё что угодно!
Феодор выдержал паузу, давая страху полностью завладеть им.
— Однако, — продолжил он, и его голос стал почти вкрадчивым, — я могу проявить милость. Я могу вернуть тебя в спальню. Могу даже распорядиться, чтобы твоя порция стала немного… больше. И чтобы надзиратели закрывали глаза на некоторые твои мелкие шалости. Ты снова сможешь почувствовать себя сильным.
Надежда, отчаянная и жалкая, блеснула в глазах Щуплого.
— Что… что я должен делать?
— Ничего особенного, — Феодор откинулся в кресле. — Просто смотреть. И слушать. И обо всём, что покажется тебе необычным, докладывать смотрителю Броку. О каждом тайном разговоре. О каждом странном предмете. О каждом шёпоте после отбоя. Ты станешь моими глазами. В обмен на мою защиту.
Щуплый, не раздумывая ни секунды, начал торопливо кивать, его лицо исказилось в подобострастной, угодливой гримасе.
— Да, господин Главный Смотритель! Конечно! Я всё… я буду…
— Довольно, — прервал его Феодор с брезгливостью. — Можешь идти. И помни. Один неверный шаг, одна попытка обмануть меня — и ты вернёшься в карцер. Навсегда.
Щуплый, пятясь и кланяясь, выскользнул за дверь. Брок проводил его взглядом, полным презрения, и повернулся к Феодору.
— Он слабак. Предаст при первой же возможности.
Феодор позволил себе едва заметную, холодную улыбку. Он медленно взял в руки серебряный ножичек и снова провёл по его лезвию замшей.
— Конечно, предаст, — тихо сказал он, не глядя на Брока. — Именно поэтому он и полезен. Он будет докладывать мне. И будет пытаться докладывать на меня тому, кто, как он думает, сильнее. И по тому, куда именно потечёт гной, я и вычислю свой настоящий нарыв. Это не молот, Брок. Это — скальпель. А теперь идите. И проследите, чтобы наш новый инструмент получил свою первую награду. Лишний кусок хлеба за ужином, например.
Брок вышел, и дверь за ним закрылась с глухим стуком, который, казалось, поглотила вязкая тишина кабинета. Феодор остался один. Он не двигался, продолжая смотреть на то место, где только что стоял его помощник. На его тонких, бескровных губах играла едва заметная, холодная усмешка. Молот был груб, предсказуем и абсолютно управляем. Теперь у него был и скальпель — дрожащий, отчаявшийся, готовый на всё ради малейшей подачки. Инструменты были готовы.
Медленно поднявшись, он подошёл к окну. За толстым, покрытым ледяными узорами стеклом выл ветер, закручивая снежные вихри во дворе. Глубокий Сон. Идеальное время. Холод сковывал не только землю, но и волю. Но ждать, пока его новый инструмент, Каламуш, принесёт ему что-то ценное, было бы ошибкой. Это могло занять седмицы, а его терпение, отточенное годами бюрократической службы, имело свои пределы, когда речь шла о личном контроле.
Нет. Ему нужен был катализатор. Событие, которое встряхнёт их хрупкий мирок, заставит их совершать ошибки. Он снова мысленно разложил на доске фигуры. Аристократ — мозг, но сломленный виной. Дикарь — мышцы, но ослеплённые примитивной яростью. И девочка. Серая, незаметная пешка, которую дикарь, судя по всему, пытается сделать первым членом своей жалкой шайки.
«Они думают, что умнее. Но они — просто дети. Ими движут примитивные реакции. Привязанность. А любая привязанность — это уязвимость. Трещина в броне, которую нужно расширить».
Он повернулся от окна, и его взгляд нашёл то, что он искал. План родился мгновенно, безупречный в своей холодной, безжалостной логике.
«Нужно применить давление к самому слабому звену — к девочке. Не молотом. Скальпелем. Лёгкий, точный надрез, и их хрупкий союз потеряет структурную целостность. Дикарь впадёт в слепую ярость и совершит ошибку. Аристократ, его “мозг”, окончательно сломается от страха. И тогда я их возьму. Тёплыми».
Движения Феодора стали медленными, почти торжествующими. Он подошёл к высокому, тёмному шкафу, занимавшему целую стену, — его личному архиву, библиотеке сломанных судеб. Его тонкие, сухие пальцы скользнули по корешкам одинаковых серых папок, не задерживаясь. Он не искал — он знал. Его палец остановился на одной из них. Тонкой, почти пустой.
Он достал её и вернулся за стол. Положил перед собой, на мгновение задержав на ней свой блёклый взгляд. Затем, с предвкушением хирурга, готовящегося к точной операции, открыл. На сером, казённом листе корявым почерком было выведено: «Лэя Сабелдир. Номер двести восемьдесят четыре». Ниже — несколько скупых строк… Феодор перечитал последнюю: «Особых талантов не выявлено». И на его губах появилась едва заметная, хищная улыбка стратега, нашедшего идеальный ход.
Глава 19. Глаза в тени
Миновал лишь первый день Глубокого Сна, а зима уже успела войти в свою самую глухую, мёртвую фазу. Холод просочился внутрь, превратив грязный снег во дворе в твёрдый, звенящий наст и выморозив остатки тепла из душ детей.
Лэя скользила сквозь утреннюю толпу в главном коридоре, как маленькая серая тень. Её худенькое, почти невесомое тело легко проскальзывало в малейшие просветы между другими детьми. Она двигалась вдоль стен, используя большие, шумные группы как движущееся прикрытие, её взгляд сканировал не лица, а тени, ища в них укрытие и опасность.
Внезапно гул, наполнявший коридор, захлебнулся и стих. Он не просто затих — он рухнул, словно подкошенный, сменившись вязкой, звенящей пустотой. Сотни голов, как по команде, повернулись в одну сторону. Лэя, спрятавшись за спиной какого-то рослого мальчика, тоже посмотрела.
Из караульного помещения вышел смотритель Брок. Его тяжёлые, подбитые железом сапоги гулко, размеренно били по каменному полу. Но он был не один. За его широкой спиной, как побитая, но вернувшаяся в чужую свору собака, плёлся Щуплый.
При виде него ужас ледяной иглой вонзился Лэе в солнечное сплетение, заставив её замереть на месте. В её детском сознании, где законы приюта были абсолютны, это было невозможно. «Не может быть… Это призрак…» — пронеслось в её голове. Она знала, все знали: из карцера после такого долгого срока не возвращаются. Это было место, куда уходят навсегда.
Но он был здесь. Худ, бледен до синевы, с тёмными провалами под глазами, но живой. И на краткий, ослепительный миг её охватило наивное, детское облегчение. «Он выжил. Значит, здесь не всегда убивают. Значит, есть шанс…»
Надежда рухнула в тот же миг, как и родилась. Брок, доведя своего подопечного до центра коридора, остановился. Он не сказал ни слова. Он просто бросил на Щуплoго один-единственный, короткий, властный взгляд — взгляд хозяина, отдающего безмолвный приказ своей собаке. И ледяная, тошнотворная ясность обожгла сознание Лэи. Он не просто выжил. Он сдался. Он заключил сделку. Он стал их глазами.
Её собственный страх утонул в холодной, ядовитой мысли, которая родилась в глубине сознания с пугающей, неотвратимой ясностью: «Тот чердак. Та встреча. Мальчики… И теперь всё стало хуже. У Щуплого глаза повсюду. Он смотрит. Это из-за меня…».
Её взгляд инстинктивно метнулся в толпу, ища знакомые фигуры. Она нашла Вайрэка. Она ожидала увидеть на его лице холодный триумф, удовлетворение от поверженного врага. Но вместо этого увидела, как его лицо исказилось в брезгливой гримасе, словно он увидел что-то гниющее. Вайрэк смотрел на Щуплого не как на врага, а как на уродливое, ходячее последствие своего собственного плана. Он сделал едва заметный шаг назад, словно боясь испачкаться. «Он боится не его, — с удивлением поняла Лэя. — Он боится себя».
Затем она нашла Ирвуда. Он стоял, прислонившись к противоположной стене, и его тело было напряжено, как сжатая пружина. Он не смотрел на Щуплого. Его тяжёлый, ледяной взгляд был направлен прямо на неё. В его глазах не было ни поддержки, ни сочувствия. Только холодная, безмолвная ярость зверя, чью территорию посмели осквернить. Она видела лишь то, что было на поверхности: холодную, безмолвную ярость зверя, чью территорию посмели осквернить. От этой дикой, неприкаянной решимости в его взгляде у неё по спине пробежал холодок, такой же липкий и ледяной, как от вида вернувшегося призрака Щуплого.
Брок, удовлетворённый произведённым эффектом, развернулся и ушёл, оставив Щуплого одного посреди мёртвой тишины. Вожак, который ещё недавно был королём этого коридора, теперь стоял, опустив голову, и не смел поднять глаз, чувствуя на себе сотни испуганных и ненавидящих взглядов. Представление было окончено. Новый, уродливый порядок вступил в силу.
С возвращением Щуплого страх перестал быть редким, острым приступом — теперь он стал постоянным, удушающим фоном. Он висел в спёртом воздухе коридоров, сквозил в боязливых перешёптываниях и заставлял детей инстинктивно вжимать головы в плечи. Из окна своего кабинета Главный Смотритель Феодор с холодным, отстранённым удовлетворением наблюдал за плодами своего решения. Он видел, как рухнула хрупкая иерархия, как дети теперь избегают друг друга, боясь сказать лишнее слово. Он видел, как Щуплый, словно призрак, бродит среди них — живое, ходячее напоминание о том, что у стен есть уши, а у милости — своя цена.
Прошло несколько дней. В безупречно упорядоченном мире Главного Смотрителя, где каждая вещь знала своё место, а каждый звук был предсказуем, царила стерильная тишина. За высоким, покрытым ледяными узорами окном выл ветер, но толстое стекло превращало его яростный голос в глухой, едва различимый гул. В камине ровно, почти беззвучно, горели поленья, уложенные с геометрической точностью. Их сухое тепло едва справлялось с холодом, сочившимся от каменных стен.
Феодор сидел за своим массивным дубовым столом. Перед ним лежали первые доклады, записанные Броком со слов Щуплого — несколько листов дешёвого пергамента, исписанных грубым, солдатским почерком. Главный Смотритель скользнул по ним взглядом, полным брезгливого, почти физического отвращения, как хирург смотрит на грязный, заржавевший инструмент.
«Мусор, — пронеслось в его голове. — Он приносит мне мусор, потому что ищет не там. Он слеп».
Движения его были медленными, выверенными. Он сдвинул доклады на самый край стола, идеально выровняв их по линии полированного дерева. «Брок — это молот, — с холодным презрением подумал Феодор. — Грубый, предсказуемый и абсолютно управляемый. Но молотом вскрывают сундуки, а не души». Он взял с подставки свой серебряный ножичек для бумаг и кусочек мягкой замши, начав медленно, с наслаждением, полировать его безупречно чистое лезвие. «Теперь пришло время для скальпеля».
Он дёрнул за засаленный шнур колокольчика. Почти сразу дверь бесшумно отворилась, и в кабинет вошёл Брок.
— Господин Главный Смотритель, — пробасил он.
Феодор не поднял головы, продолжая своё занятие.
— Наш «инструмент» бесполезен, Брок, — сказал он своим сухим, шелестящим голосом. — Он пытается вскрыть шкатулку молотом. Пришло время навести его на замочную скважину.
Он наконец поднял свои блёклые, ничего не выражающие глаза. Его анализ был завершён, картина обрела строгую, безупречную логику. «Аристократ сломлен виной. Дикарь ослеплён примитивным инстинктом защиты. Девочка — их общая слабость. Трещина в броне. Нужно лишь немного надавить, и вся конструкция рухнет».
— Передайте воспитаннику номер семьдесят три, — он намеренно не называл Щуплого по имени, — что с этой минуты его единственная цель — воспитанница номер двести восемьдесят четыре. Лэя Сабелдир. Пусть следит за каждым её шагом, каждым вздохом. Мне нужен рычаг. Пусть найдёт его.
Брок вышел из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Оказавшись в холодном, гулком коридоре, он на мгновение остановился. На его грубом, обветренном лице отразилось презрение. «Девочка? Он хочет травить девчонку? Вместо того чтобы просто сломать дикаря... Игры. Бесполезные, бабские игры. Но приказ есть приказ».
Он нашёл Щуплого там, где и ожидал — в сыром, пахнущем плесенью коридоре у входа в подвалы. Это было его новое логово, место, где он мог чувствовать себя в безопасности под крылом своих новых хозяев.
Брок навис над ним, и его тень полностью поглотила съёжившуюся фигурку. Его голос был низким, угрожающим рокотом, лишённым всякой фальши.
— У тебя новое задание. Забудешь обо всех. Теперь твоя цель — девчонка. Лэя Сабелдир. Ходи за ней тенью. Слушай, о чём говорит. Смотри, куда ходит. Мне нужно знать о ней всё.