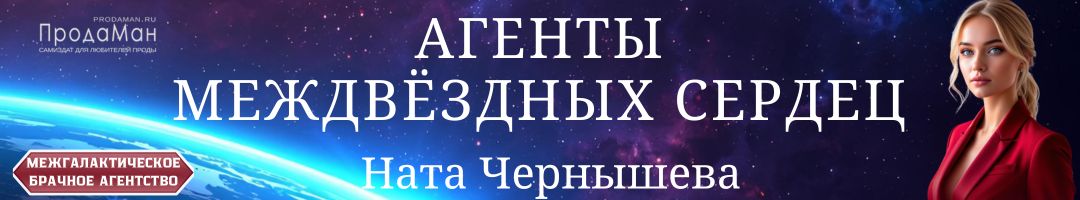Вайрэк поднял на него глаза.
— Я был другом твоего отца, — продолжил Крэйн, и в его голосе зазвучали стальные, пафосные ноты. — И мой долг чести — позаботиться о его единственном наследнике. Пока ты не достигнешь совершеннолетия, мой дом будет твоим домом. Ты будешь жить здесь, окружённый заботой. Ты получишь лучших учителей. Я лично прослежу, чтобы ты вырос достойным имени Алари.
Он говорил правильные, благородные слова. Любой другой на месте Вайрэка, сломленный и потерянный, увидел бы в нём спасителя. Но даже сквозь пелену шока Вайрэк видел больше, чем было сказано. Видел, как тёмно-коричневые глаза не сочувствуют, а цепко оценивают. Как в уголках губ, произносящих слова скорби, прячется тень торжества.
Вайрэка оставили одного. Он сидел неподвижно, глядя на остывающий бульон. Он не понял всех деталей интриги, но инстинкт загнанного зверя кричал ему, что он в ловушке. Его не спасли. Его пленили. И его тюрьма — эта роскошная, холодная комната. А его тюремщик — человек, который называет себя другом его отца.
Он посмотрел на чашку с бульоном. Запах мяса и трав, такой правильный и домашний, вдруг показался ему тошнотворным, как сладковатый запах крови в карете. Это был запах лжи. И тогда из самой глубины его опустошённой души поднялась мысль, холодная, острая и ясная: «Как он смеет?» Холодная ярость перестала быть бесформенной. Она обрела имя, лицо и цель. Имя этой цели было лорд Виларио Крэйн.
Ирвуда не повели в приют сразу. Его оставили ждать. Стражник привязал его короткой верёвкой к позорному столбу на краю площади, в стороне от основной толпы, и ушёл поближе к эшафоту, чтобы не пропустить самое интересное.
Ирвуд был вынужден смотреть. Он видел, как на помост втащили его «отца». Тот трясся, что-то бормотал, его лицо было белым от ужаса. На мгновение их взгляды встретились через всю площадь. В глазах мужчины Ирвуд не увидел ничего, кроме животного, жалкого страха. Он отвернулся. Он не хотел этого видеть. Он смотрел на толпу. Искал в ней знакомое лицо. И нашёл.
Мать. Она стояла в задних рядах, закутавшись в старую шаль. Она не плакала. Она не кричала. Она просто смотрела на виселицу с пустыми, ничего не выражающими глазами.
Раздался рёв толпы. Ирвуд не смотрел, но он знал, что всё кончено. Когда он снова поднял глаза, тело уже висело в петле, раскачиваясь на ветру. Толпа начала медленно расходиться, возбуждённо обсуждая увиденное.
Он снова посмотрел туда, где стояла мать. Она тоже смотрела на виселицу. Потом, медленно, словно нехотя, она развернулась и пошла прочь, растворяясь в людском потоке. Она сбежала.
— Ну всё, представление окончено, — стражник вернулся, грубо дернув за веревку, стягивающую запястье Ирвуда. — Пошли, отродье.
Боль от веревки была острой и настоящей. Ирвуд посмотрел на серые стены приюта впереди. Мать сбежала. Слабаки всегда бегут. Но он не сбежит. Холод веревки на коже вдруг сменился жгучим упрямством. Он выживет. Он станет таким сильным, что никто и никогда больше не посмеет вот так тащить его на веревке. Он сам станет тем, кто держит веревку.
Стражник, чьё лицо было таким же серым и безразличным, как стены казармы, грубо втолкнул Ирвуда в приёмную Городского приюта. Он не ушёл, а шагнул следом, позволяя тяжёлой дубовой двери захлопнуться за его спиной с глухим, окончательным стуком. Посреди комнаты, словно остров побитого властью дерева в море серого камня, стоял массивный дубовый стол. За ним, в высоком кресле с потрескавшейся кожаной обивкой, сидел Смотритель. Это был сухопарый мужчина в заношенном до блеска сюртуке, который был ему явно велик. Он не обратил на вошедших никакого внимания, полностью поглощённый важным занятием: он с методичной, почти хирургической точностью затачивал кончик пера маленьким, острым ножичком, сдувая невидимые пылинки.
Стражник кашлянул, нарушая тишину. Смотритель нехотя поднял голову, и его лицо, узкое и бледное, скривилось в гримасе раздражения, словно его оторвали от решения важнейшего государственного дела.
— Брок, — бросил стражник, подталкивая Ирвуда вперёд. — Приказ капитана. Этот — сын казнённого сегодня утром Корбина Фенриса. Принять на содержание Короны.
— Ещё один, — процедил Брок, брезгливо оглядев Ирвуда с ног до головы. — Мест нет. Вышвырните его обратно на улицу.
— Не могу, — отрезал стражник, и в его голосе прозвучал металл власти, привыкшей повелевать за пределами этих стен. — Приказ капитана был ясен. Это дело… громкое.
Когда стражник упомянул, что дело «громкое», взгляд Брока изменился. Его глаза на мгновение расфокусировались, словно он увидел за спиной Ирвуда нечто большее — отголосок криков, едкий запах озона и обугленного камня. Воспоминание, которое он годами топил в дешёвом вине. Он ненавидел такие дела. Они ломали привычный порядок, от них пахло магией и большими проблемами. И этот страх он привык выжигать из себя, вымещая его на детей, которые попадали в его власть.
Брок на мгновение замолчал, и в его бледных глазах мелькнуло торжество. Он наслаждался этим моментом — возможностью унизить представителя другой, более сложной системы. Здесь, в его приёмной, приказы капитанов и политика знати были лишь пустым звуком. Здесь были только его правила. Простые и понятные.
— А мне плевать, — с напускной ленцой ответил он. — Мест. Нет.
Мальчишка не должен болтаться по городу и мозолить глаза знати. Смотритель на мгновение замер. Слово «знать» подействовало на него, как удар хлыста. Он понял, что это не обычный беспризорник, которого можно безнаказанно пнуть. Это была проблема. Политическая. Он нервно сглотнул. — Я должен доложить Главному Смотрителю Феодору, — пролепетал он, внезапно теряя всю свою напускную важность. — Ждите здесь. Он почти выбежал из-за стола и скрылся за неприметной дверью в глубине комнаты. Стражник остался стоять у входа, безучастно глядя в стену. Ирвуд стоял посреди комнаты, не шевелясь. Он слышал приглушённые голоса за дверью, но не мог разобрать слов.
Через несколько долгих минут дверь снова отворилась. Вернувшийся Смотритель выглядел ещё более понурым.
— Главный Смотритель велел принять, — процедил он сквозь зубы, словно это было величайшее одолжение. — Оформляйте. Он плюхнулся в кресло и с ненавистью уставился на гроссбух.
— Имя? Фамилия? — спросил он, макая перо в чернильницу.
— Ирвуд. Фенрис, — ответил за мальчика стражник. — Больше у него ничего нет. Смотритель скрипучим пером вывел в гроссбухе: «Ирвуд Фенрис», поставил жирную кляксу и, даже не поднимая головы, лениво звякнул в маленький медный колокольчик. Этот звон, а не слова, был приговором. Почти сразу из коридора появились двое Надзирателей, крепких парня с пустыми, бычьими лицами. Стражник коротко кивнул им, передавая своего подопечного и выполнив свой долг до конца, развернулся и вышел.
Теперь Ирвуд остался один на один с системой приюта. Воздух внутри был густым и неподвижным, пропитанным едким, стерильным запахом карболки и застарелой, въевшейся в камень сыростью. Это был запах казённой безнадёжности, чистоты, которая была страшнее любой грязи.
Ирвуд молчал. Страх и обида были бесполезной роскошью, пустой тратой сил. Вместо этого он наблюдал. Запоминал. Лица надзирателей — пустые, безразличные. Движения — грубые, заученные. Они не были злыми. Злость — это чувство, а здесь чувств не было. Была лишь процедура, которую нужно было перетерпеть. И он терпел.
Надзиратели грубо поставили его на ноги. Один из них достал большой нож, похожий на тесак для разделки мяса, и без предупреждения начал срезать с Ирвуда его лохмотья. Жёсткая от грязи и пота ткань его единственной рубахи и штанов-портов падала на каменный пол грязными комками. Он стоял голый, чувствуя, как холодный, влажный воздух облепляет кожу, но не дрожал. Он смотрел, как его старую жизнь — единственное, что у него было, — сгребают в охапку и без всякой церемонии швыряют в раскалённую топку небольшой чугунной печи в углу. Пламя жадно взревело, на мгновение озарив комнату оранжевым светом и бросив на его обнаженную кожу волну сухого жара. Но внутри было холодно. Он просто смотрел, как последняя нить, связывавшая его с прошлой жизнью, корчится в огне и превращается в невесомый серый прах.
«Вот и всё», — подумал он без всякой грусти.
Затем его поволокли к большой деревянной лохани. Ледяная вода, от которой перехватило дыхание, обрушилась на него из ведра. Его тело мгновенно покрылось гусиной кожей, но он лишь крепче сжал зубы. Что-то древнее и упрямое в его жилах воспротивилось стуже, превращая пытку в неприятное, но терпимое неудобство. Словно его собственная суть была выкована из того же первобытного холода, и теперь две стужи лишь с удивлением разглядывали друг друга. Затем по его коже прошлись щёткой. Её щетина, жёсткая и острая, как терновые шипы, впивалась в тело, сдирая въевшуюся грязь вместе с кожей, доводя её до багровой красноты. Он молчал.
Когда экзекуция закончилась, ему швынули серую робу из грубого, колючего холста. Она царапала кожу, но была целой, без единой дырки. А потом ему выдали обувь. Впервые в его жизни. Это были грубые деревянные клоги, тяжёлые и неуклюжие. Он с трудом просунул в них ноги, чувствуя, как твёрдое, неотёсанное дерево впивается в ступни. Когда он сделал первый шаг по каменному полу, раздался громкий, чужой, гулкий стук. Клог. Клог. Клог. Звук был незнакомым, но под ногами была твёрдая защита.
Вайрэк сидел в кресле, обитом серебряной парчой, и чувствовал себя бабочкой, пронзённой на бархатной подушке. Роскошная гостевая комната в особняке Крэйна была его золотой клеткой. Огонь в камине из чёрного мрамора горел ровно и бесшумно, но не давал тепла. Воздух пах чужими, резкими ароматами заморских масел.
Дверь отворилась беззвучно. Вошла леди Илара Крэйн. Она была полной противоположностью своему мужу. Если лорд Виларио был холоден, как зимний камень, то его жена, казалось, излучала мягкое, тёплое сияние. Её платье из тёмно-синего бархата не шуршало, а её шаги были легки и неслышны на толстом ковре.
— Бедный мой мальчик, — прошептала она, и в её голосе слышалась неподдельная, как показалось Вайрэку, печаль.
Она присела рядом на край кресла, её движения были полны осторожной грации. В руках она держала маленькую фарфоровую тарелку, на которой лежали два пирожных, покрытых сахарной пудрой.
— Ты, должно быть, голоден. Попробуй, их испекли специально для тебя.
Вайрэк молча покачал головой. Он не мог есть.
Леди Илара не стала настаивать. Она поставила тарелку на столик и мягко коснулась его руки. Её пальцы были тёплыми.
— Я знаю, тебе сейчас очень тяжело, — тихо продолжила она, и в её глазах, цвета весеннего неба, стояли слёзы. — Но ты не должен бояться. Мы здесь, чтобы защитить тебя.
— Я хочу домой, — прошептал Вайрэк, его голос был едва слышен.
— Конечно, милый. Конечно, ты вернёшься домой, — её голос был как целительный бальзам. Она тяжело вздохнула, словно подбирая слова. — Мой супруг… он человек долга. Иногда его долг делает его жёстким. Он и твой отец не всегда сходились во взглядах в Совете, но лорд Крэйн всегда глубоко уважал твоего отца за его силу и честь. Сейчас он считает, что пока в городе есть хоть малейшая угроза, твой дом — самое опасное для тебя место. Он хочет защитить тебя, даже если его методы кажутся… суровыми. Потерпи немного. Ради своей безопасности.
Вайрэк поднял на неё глаза. Он отчаянно хотел ей верить. Память об отце, о его недоверии к Крэйнам, кричала об опасности, но тепло, исходившее от леди Илары, её искреннее, как ему казалось, сочувствие, — всё это пробивало ледяную корку его горя. Может быть, он всё неправильно понял? Может, его действительно защищают? Эта хрупкая, отчаянная надежда начала пускать первые, слабые корни в его израненной душе.
Длинная, гулкая столовая приюта была наполнена шумом сотен голодных детей. Скрежет деревянных ложек по глиняным мискам, приглушённый гомон и резкие окрики смотрителей сливались в единый, монотонный гул. Ирвуд сидел за длинным, засаленным столом и жадно ел. Каша была безвкусной, сваренной на воде с добавлением чего-то отдалённо напоминающего жир, но она была горячей и густой. Рядом с миской лежал ломоть серого хлеба.
Он почти доел, когда перед ним выросла тень. Ирвуд поднял голову. Над ним стояли трое. В главаре, долговязом подростке с крысиным лицом и злыми, бегающими глазками, он без труда узнал того, кого другие дети со страхом называли Щуплым. За его спиной маячили два приспешника, туповатые и крепкие.
— Хлеб, — прошипел Щуплый, протягивая грязную руку. — Новичкам не положено.
Ирвуд опустил глаза, не показывая ни страха, ни вызова. «Драться? Глупо. Трата сил и гарантированные побои». Его взгляд, скользнув по туповатым лицам приспешников, остановился на главаре. Щуплый. Голодные, бегающие глаза. Он хотел не просто хлеба. Он хотел власти, которую дает этот хлеб. «Жадность, — понял Ирвуд. — Вот рычаг».
Ирвуд испуганно съёжился, вжимая голову в плечи. Он разыграл идеальный спектакль, которому его научили годы выживания. Он огляделся по сторонам, словно ища помощи, а затем, наклонившись к Щуплому, заговорщицки прошептал, так, чтобы слышал только он:
— Не здесь. Смотритель… он отобрал у меня серебряный эссо, когда мыл. Сказал, вернёт после ужина. Он в его каморке, в ящике. Помоги мне его забрать — хлеб твой, и монета пополам.
Глаза Щуплого на мгновение расширились от шока, а затем вспыхнули лихорадочным блеском. Серебряный эссо! Целый эссо! Это была не просто монета, это было целое состояние для ребенка из приюта. Тысяча ммив... На эти деньги можно было сбежать и жить несколько месяцев, не зная голода. Покупать не чёрствый хлеб, а горячие пироги с мясом. Это была не просто монета, это был билет в другую жизнь. Жадность, чистая и всепоглощающая, полностью отключила его инстинкт самосохранения. Он быстро оценил ситуацию. План был рискованным, но награда была немыслимой.
— Шумните, — коротко бросил он своим приспешникам.
Те поняли его с полуслова. Один из них, ухмыльнувшись, с силой пнул ножку длинной скамьи. Та с оглушительным грохотом опрокинулась, сбрасывая на каменный пол с десяток ничего не подозревавших детей. Взвизгнув от неожиданности и боли, они посыпались друг на друга, как кегли. В следующую секунду воздух взорвался. Визги смешались с гневными криками, кто-то, воспользовавшись моментом, влепил затрещину давнему обидчику, и общая свалка вспыхнула мгновенно, как сухой хворост. Глиняные миски с сухим треском разлетались об пол, разбрызгивая во все стороны серую, клейкую кашу. Двое Надзирателей, до этого лениво наблюдавшие за залом, взревели от ярости и, размахивая прутьями, тут же бросились в самую гущу, пытаясь выхватить зачинщиков.
В образовавшейся суматохе Щуплый, пригнувшись, метнулся к каморке смотрителей, дверь в которую была приоткрыта.
И в этот самый момент Ирвуд, который до этого не сводил глаз со своей миски, вместо того чтобы бежать за ним, вскочил на ноги. Его движение было резким, как удар змеи. Указывая пальцем на каморку, он закричал во всю мощь своих лёгких:
— Держи вора! Он в каморку к смотрителю полез!
Суматоха мгновенно стихла. Все взгляды, включая взгляды разъярённых смотрителей, обратились к каморке. Через секунду оттуда выволокли опешившего Щуплого. Никакой монеты у него, разумеется, не нашли, но сам факт проникновения был страшным преступлением.
— Я был другом твоего отца, — продолжил Крэйн, и в его голосе зазвучали стальные, пафосные ноты. — И мой долг чести — позаботиться о его единственном наследнике. Пока ты не достигнешь совершеннолетия, мой дом будет твоим домом. Ты будешь жить здесь, окружённый заботой. Ты получишь лучших учителей. Я лично прослежу, чтобы ты вырос достойным имени Алари.
Он говорил правильные, благородные слова. Любой другой на месте Вайрэка, сломленный и потерянный, увидел бы в нём спасителя. Но даже сквозь пелену шока Вайрэк видел больше, чем было сказано. Видел, как тёмно-коричневые глаза не сочувствуют, а цепко оценивают. Как в уголках губ, произносящих слова скорби, прячется тень торжества.
Вайрэка оставили одного. Он сидел неподвижно, глядя на остывающий бульон. Он не понял всех деталей интриги, но инстинкт загнанного зверя кричал ему, что он в ловушке. Его не спасли. Его пленили. И его тюрьма — эта роскошная, холодная комната. А его тюремщик — человек, который называет себя другом его отца.
Он посмотрел на чашку с бульоном. Запах мяса и трав, такой правильный и домашний, вдруг показался ему тошнотворным, как сладковатый запах крови в карете. Это был запах лжи. И тогда из самой глубины его опустошённой души поднялась мысль, холодная, острая и ясная: «Как он смеет?» Холодная ярость перестала быть бесформенной. Она обрела имя, лицо и цель. Имя этой цели было лорд Виларио Крэйн.
Ирвуда не повели в приют сразу. Его оставили ждать. Стражник привязал его короткой верёвкой к позорному столбу на краю площади, в стороне от основной толпы, и ушёл поближе к эшафоту, чтобы не пропустить самое интересное.
Ирвуд был вынужден смотреть. Он видел, как на помост втащили его «отца». Тот трясся, что-то бормотал, его лицо было белым от ужаса. На мгновение их взгляды встретились через всю площадь. В глазах мужчины Ирвуд не увидел ничего, кроме животного, жалкого страха. Он отвернулся. Он не хотел этого видеть. Он смотрел на толпу. Искал в ней знакомое лицо. И нашёл.
Мать. Она стояла в задних рядах, закутавшись в старую шаль. Она не плакала. Она не кричала. Она просто смотрела на виселицу с пустыми, ничего не выражающими глазами.
Раздался рёв толпы. Ирвуд не смотрел, но он знал, что всё кончено. Когда он снова поднял глаза, тело уже висело в петле, раскачиваясь на ветру. Толпа начала медленно расходиться, возбуждённо обсуждая увиденное.
Он снова посмотрел туда, где стояла мать. Она тоже смотрела на виселицу. Потом, медленно, словно нехотя, она развернулась и пошла прочь, растворяясь в людском потоке. Она сбежала.
— Ну всё, представление окончено, — стражник вернулся, грубо дернув за веревку, стягивающую запястье Ирвуда. — Пошли, отродье.
Боль от веревки была острой и настоящей. Ирвуд посмотрел на серые стены приюта впереди. Мать сбежала. Слабаки всегда бегут. Но он не сбежит. Холод веревки на коже вдруг сменился жгучим упрямством. Он выживет. Он станет таким сильным, что никто и никогда больше не посмеет вот так тащить его на веревке. Он сам станет тем, кто держит веревку.
Глава 5. Серые Стены и Золотая Клетка
Стражник, чьё лицо было таким же серым и безразличным, как стены казармы, грубо втолкнул Ирвуда в приёмную Городского приюта. Он не ушёл, а шагнул следом, позволяя тяжёлой дубовой двери захлопнуться за его спиной с глухим, окончательным стуком. Посреди комнаты, словно остров побитого властью дерева в море серого камня, стоял массивный дубовый стол. За ним, в высоком кресле с потрескавшейся кожаной обивкой, сидел Смотритель. Это был сухопарый мужчина в заношенном до блеска сюртуке, который был ему явно велик. Он не обратил на вошедших никакого внимания, полностью поглощённый важным занятием: он с методичной, почти хирургической точностью затачивал кончик пера маленьким, острым ножичком, сдувая невидимые пылинки.
Стражник кашлянул, нарушая тишину. Смотритель нехотя поднял голову, и его лицо, узкое и бледное, скривилось в гримасе раздражения, словно его оторвали от решения важнейшего государственного дела.
— Брок, — бросил стражник, подталкивая Ирвуда вперёд. — Приказ капитана. Этот — сын казнённого сегодня утром Корбина Фенриса. Принять на содержание Короны.
— Ещё один, — процедил Брок, брезгливо оглядев Ирвуда с ног до головы. — Мест нет. Вышвырните его обратно на улицу.
— Не могу, — отрезал стражник, и в его голосе прозвучал металл власти, привыкшей повелевать за пределами этих стен. — Приказ капитана был ясен. Это дело… громкое.
Когда стражник упомянул, что дело «громкое», взгляд Брока изменился. Его глаза на мгновение расфокусировались, словно он увидел за спиной Ирвуда нечто большее — отголосок криков, едкий запах озона и обугленного камня. Воспоминание, которое он годами топил в дешёвом вине. Он ненавидел такие дела. Они ломали привычный порядок, от них пахло магией и большими проблемами. И этот страх он привык выжигать из себя, вымещая его на детей, которые попадали в его власть.
Брок на мгновение замолчал, и в его бледных глазах мелькнуло торжество. Он наслаждался этим моментом — возможностью унизить представителя другой, более сложной системы. Здесь, в его приёмной, приказы капитанов и политика знати были лишь пустым звуком. Здесь были только его правила. Простые и понятные.
— А мне плевать, — с напускной ленцой ответил он. — Мест. Нет.
Мальчишка не должен болтаться по городу и мозолить глаза знати. Смотритель на мгновение замер. Слово «знать» подействовало на него, как удар хлыста. Он понял, что это не обычный беспризорник, которого можно безнаказанно пнуть. Это была проблема. Политическая. Он нервно сглотнул. — Я должен доложить Главному Смотрителю Феодору, — пролепетал он, внезапно теряя всю свою напускную важность. — Ждите здесь. Он почти выбежал из-за стола и скрылся за неприметной дверью в глубине комнаты. Стражник остался стоять у входа, безучастно глядя в стену. Ирвуд стоял посреди комнаты, не шевелясь. Он слышал приглушённые голоса за дверью, но не мог разобрать слов.
Через несколько долгих минут дверь снова отворилась. Вернувшийся Смотритель выглядел ещё более понурым.
— Главный Смотритель велел принять, — процедил он сквозь зубы, словно это было величайшее одолжение. — Оформляйте. Он плюхнулся в кресло и с ненавистью уставился на гроссбух.
— Имя? Фамилия? — спросил он, макая перо в чернильницу.
— Ирвуд. Фенрис, — ответил за мальчика стражник. — Больше у него ничего нет. Смотритель скрипучим пером вывел в гроссбухе: «Ирвуд Фенрис», поставил жирную кляксу и, даже не поднимая головы, лениво звякнул в маленький медный колокольчик. Этот звон, а не слова, был приговором. Почти сразу из коридора появились двое Надзирателей, крепких парня с пустыми, бычьими лицами. Стражник коротко кивнул им, передавая своего подопечного и выполнив свой долг до конца, развернулся и вышел.
Теперь Ирвуд остался один на один с системой приюта. Воздух внутри был густым и неподвижным, пропитанным едким, стерильным запахом карболки и застарелой, въевшейся в камень сыростью. Это был запах казённой безнадёжности, чистоты, которая была страшнее любой грязи.
Ирвуд молчал. Страх и обида были бесполезной роскошью, пустой тратой сил. Вместо этого он наблюдал. Запоминал. Лица надзирателей — пустые, безразличные. Движения — грубые, заученные. Они не были злыми. Злость — это чувство, а здесь чувств не было. Была лишь процедура, которую нужно было перетерпеть. И он терпел.
Надзиратели грубо поставили его на ноги. Один из них достал большой нож, похожий на тесак для разделки мяса, и без предупреждения начал срезать с Ирвуда его лохмотья. Жёсткая от грязи и пота ткань его единственной рубахи и штанов-портов падала на каменный пол грязными комками. Он стоял голый, чувствуя, как холодный, влажный воздух облепляет кожу, но не дрожал. Он смотрел, как его старую жизнь — единственное, что у него было, — сгребают в охапку и без всякой церемонии швыряют в раскалённую топку небольшой чугунной печи в углу. Пламя жадно взревело, на мгновение озарив комнату оранжевым светом и бросив на его обнаженную кожу волну сухого жара. Но внутри было холодно. Он просто смотрел, как последняя нить, связывавшая его с прошлой жизнью, корчится в огне и превращается в невесомый серый прах.
«Вот и всё», — подумал он без всякой грусти.
Затем его поволокли к большой деревянной лохани. Ледяная вода, от которой перехватило дыхание, обрушилась на него из ведра. Его тело мгновенно покрылось гусиной кожей, но он лишь крепче сжал зубы. Что-то древнее и упрямое в его жилах воспротивилось стуже, превращая пытку в неприятное, но терпимое неудобство. Словно его собственная суть была выкована из того же первобытного холода, и теперь две стужи лишь с удивлением разглядывали друг друга. Затем по его коже прошлись щёткой. Её щетина, жёсткая и острая, как терновые шипы, впивалась в тело, сдирая въевшуюся грязь вместе с кожей, доводя её до багровой красноты. Он молчал.
Когда экзекуция закончилась, ему швынули серую робу из грубого, колючего холста. Она царапала кожу, но была целой, без единой дырки. А потом ему выдали обувь. Впервые в его жизни. Это были грубые деревянные клоги, тяжёлые и неуклюжие. Он с трудом просунул в них ноги, чувствуя, как твёрдое, неотёсанное дерево впивается в ступни. Когда он сделал первый шаг по каменному полу, раздался громкий, чужой, гулкий стук. Клог. Клог. Клог. Звук был незнакомым, но под ногами была твёрдая защита.
Вайрэк сидел в кресле, обитом серебряной парчой, и чувствовал себя бабочкой, пронзённой на бархатной подушке. Роскошная гостевая комната в особняке Крэйна была его золотой клеткой. Огонь в камине из чёрного мрамора горел ровно и бесшумно, но не давал тепла. Воздух пах чужими, резкими ароматами заморских масел.
Дверь отворилась беззвучно. Вошла леди Илара Крэйн. Она была полной противоположностью своему мужу. Если лорд Виларио был холоден, как зимний камень, то его жена, казалось, излучала мягкое, тёплое сияние. Её платье из тёмно-синего бархата не шуршало, а её шаги были легки и неслышны на толстом ковре.
— Бедный мой мальчик, — прошептала она, и в её голосе слышалась неподдельная, как показалось Вайрэку, печаль.
Она присела рядом на край кресла, её движения были полны осторожной грации. В руках она держала маленькую фарфоровую тарелку, на которой лежали два пирожных, покрытых сахарной пудрой.
— Ты, должно быть, голоден. Попробуй, их испекли специально для тебя.
Вайрэк молча покачал головой. Он не мог есть.
Леди Илара не стала настаивать. Она поставила тарелку на столик и мягко коснулась его руки. Её пальцы были тёплыми.
— Я знаю, тебе сейчас очень тяжело, — тихо продолжила она, и в её глазах, цвета весеннего неба, стояли слёзы. — Но ты не должен бояться. Мы здесь, чтобы защитить тебя.
— Я хочу домой, — прошептал Вайрэк, его голос был едва слышен.
— Конечно, милый. Конечно, ты вернёшься домой, — её голос был как целительный бальзам. Она тяжело вздохнула, словно подбирая слова. — Мой супруг… он человек долга. Иногда его долг делает его жёстким. Он и твой отец не всегда сходились во взглядах в Совете, но лорд Крэйн всегда глубоко уважал твоего отца за его силу и честь. Сейчас он считает, что пока в городе есть хоть малейшая угроза, твой дом — самое опасное для тебя место. Он хочет защитить тебя, даже если его методы кажутся… суровыми. Потерпи немного. Ради своей безопасности.
Вайрэк поднял на неё глаза. Он отчаянно хотел ей верить. Память об отце, о его недоверии к Крэйнам, кричала об опасности, но тепло, исходившее от леди Илары, её искреннее, как ему казалось, сочувствие, — всё это пробивало ледяную корку его горя. Может быть, он всё неправильно понял? Может, его действительно защищают? Эта хрупкая, отчаянная надежда начала пускать первые, слабые корни в его израненной душе.
Длинная, гулкая столовая приюта была наполнена шумом сотен голодных детей. Скрежет деревянных ложек по глиняным мискам, приглушённый гомон и резкие окрики смотрителей сливались в единый, монотонный гул. Ирвуд сидел за длинным, засаленным столом и жадно ел. Каша была безвкусной, сваренной на воде с добавлением чего-то отдалённо напоминающего жир, но она была горячей и густой. Рядом с миской лежал ломоть серого хлеба.
Он почти доел, когда перед ним выросла тень. Ирвуд поднял голову. Над ним стояли трое. В главаре, долговязом подростке с крысиным лицом и злыми, бегающими глазками, он без труда узнал того, кого другие дети со страхом называли Щуплым. За его спиной маячили два приспешника, туповатые и крепкие.
— Хлеб, — прошипел Щуплый, протягивая грязную руку. — Новичкам не положено.
Ирвуд опустил глаза, не показывая ни страха, ни вызова. «Драться? Глупо. Трата сил и гарантированные побои». Его взгляд, скользнув по туповатым лицам приспешников, остановился на главаре. Щуплый. Голодные, бегающие глаза. Он хотел не просто хлеба. Он хотел власти, которую дает этот хлеб. «Жадность, — понял Ирвуд. — Вот рычаг».
Ирвуд испуганно съёжился, вжимая голову в плечи. Он разыграл идеальный спектакль, которому его научили годы выживания. Он огляделся по сторонам, словно ища помощи, а затем, наклонившись к Щуплому, заговорщицки прошептал, так, чтобы слышал только он:
— Не здесь. Смотритель… он отобрал у меня серебряный эссо, когда мыл. Сказал, вернёт после ужина. Он в его каморке, в ящике. Помоги мне его забрать — хлеб твой, и монета пополам.
Глаза Щуплого на мгновение расширились от шока, а затем вспыхнули лихорадочным блеском. Серебряный эссо! Целый эссо! Это была не просто монета, это было целое состояние для ребенка из приюта. Тысяча ммив... На эти деньги можно было сбежать и жить несколько месяцев, не зная голода. Покупать не чёрствый хлеб, а горячие пироги с мясом. Это была не просто монета, это был билет в другую жизнь. Жадность, чистая и всепоглощающая, полностью отключила его инстинкт самосохранения. Он быстро оценил ситуацию. План был рискованным, но награда была немыслимой.
— Шумните, — коротко бросил он своим приспешникам.
Те поняли его с полуслова. Один из них, ухмыльнувшись, с силой пнул ножку длинной скамьи. Та с оглушительным грохотом опрокинулась, сбрасывая на каменный пол с десяток ничего не подозревавших детей. Взвизгнув от неожиданности и боли, они посыпались друг на друга, как кегли. В следующую секунду воздух взорвался. Визги смешались с гневными криками, кто-то, воспользовавшись моментом, влепил затрещину давнему обидчику, и общая свалка вспыхнула мгновенно, как сухой хворост. Глиняные миски с сухим треском разлетались об пол, разбрызгивая во все стороны серую, клейкую кашу. Двое Надзирателей, до этого лениво наблюдавшие за залом, взревели от ярости и, размахивая прутьями, тут же бросились в самую гущу, пытаясь выхватить зачинщиков.
В образовавшейся суматохе Щуплый, пригнувшись, метнулся к каморке смотрителей, дверь в которую была приоткрыта.
И в этот самый момент Ирвуд, который до этого не сводил глаз со своей миски, вместо того чтобы бежать за ним, вскочил на ноги. Его движение было резким, как удар змеи. Указывая пальцем на каморку, он закричал во всю мощь своих лёгких:
— Держи вора! Он в каморку к смотрителю полез!
Суматоха мгновенно стихла. Все взгляды, включая взгляды разъярённых смотрителей, обратились к каморке. Через секунду оттуда выволокли опешившего Щуплого. Никакой монеты у него, разумеется, не нашли, но сам факт проникновения был страшным преступлением.