Я не люблю современные книги о Второй мировой, особенно - детские, я избегаю книги о Советском Союзе, особенно - написанные в контексте “сейчас я расскажу, как все было на самом деле!” Я не люблю книги, где все страдают ради великой идеи.
Я не люблю все это не потому что у меня свой взгляд на то, что было, а, скорее, потому что этого взгляда у меня нет. Не хочу туда лезть, потому что оно меня сожрет. Я читаю не потому что тема - правильная, а потому что мне нравится то, о чем и как. Соответственно, когда мне не нравится, о чем и как, когда книга мне ничего не дает, ни духовного, ни сердечного, ни знаний, ни повода позлословить, я ее не читаю.
Вокруг “Зулейхи” я ходила кругами с 2015 года. Сначала у меня был какой-то энтузиазм, путь женщины же, важная тема! Потом этот энтузиазм пропал. Книга лежала дома, пока мне не пришлось читать ее ради обсуждения в клубе. В книге оказался автограф автора, такие вот дела. Очень я внимательная, да.
Прочитала я ее в итоге быстро - суммарно меньше, чем за сутки. Что-то нравилось, что-то вызывало вопросы, что-то страшно триггернуло, но так или иначе - и вот мы здесь.
История тихой татарской женщины, сосланной в Сибирь после раскулачивания, наверное, должна была меня тронуть за живое, ведь тут есть все для этого: и почти сказочный зачин, когда бедная сиротка страдает в чужой семье, и страшные трагедии внутри и вокруг, и медленно разрушающийся мир, и окружающие героиню чужие беды и судьбы, одна другой кинематографичнее, и мужчина красивый, и трансформация, и выживач в лесах, и дитятка от погибшего мужа, и снег, и поезда, идущие по полгода… Но чуда не произошло.
Самое глубокое эмоциональное потрясение за всю книгу - сцена тонущей баржи. Не потому что сочувствие к бедным людям и не менее бедному красавчику-герою, а потому что личный триггер, ужас от сцен, где люди в замкнутом пространстве и прибывает вода. В этот момент я пожалела, что не бросила чтение, и решила, что точно дочитаю. Зря я тут триггерюсь, что ли?
Основная проблема “Зулейхи” для меня - это ее восхитительная сделанность. Восхитительная - без сарказма. Роман написан прекрасно, он техничен, в нем и отличный язык, емкий и четкий, и не менее отличный сюжет - одна основная линия и множество мелких побочных, создающих объемное в пространстве и времени произведение. Он охватывает кусок эпохи, оставаясь при том историей одного человека (окей, историей двух человек, а потом - двух с половиной). В нем чувствуется сценарное происхождение - вплоть до акцентов и деталей в некоторых сценах, которые легко перенести на экран (почти по учебнику, деталь, раскрывающая образ персонажа, яркий чемоданчик, ружье или красные губы). Бег сюжета стремителен, каждая сцена полна напряжения, каждая арка завершена и выверена, но…
Но что-то не то.
Остается ощущение, что все элементы текста - и старый профессор с поехавшей от потрясений кукухой, и питерские интеллигенты, комплектом, и две женщины героя, яркая и тихая, и сам герой, и любовь Зулейхи к сыну - это механически соединенные между собой детали. Они выигрышны, они нацелены на то, чтобы читатель все правильно понял, считал - и проникся. Это узнаваемые образы, архетипические почти, но глубины переосмысления в них нет. Местный урка, плохиш и сволочь, даже говорит так, словно автор со словарем сидела и проверяла, как по фене ботать. Ничто не повернулось ко мне другой стороной, ничто не отозвалось, не было удивительных трансформаций (кроме одной, о ней чуть ниже), не было ужасающих открытий. Точнее, были, но не мои.
Это добрая рецензия, поэтому я так и говорю: книга хорошая, но не моя.
В плохой рецензии я скажу, что при другом прочтении “Зулейха” станет сентиментальным романом о мокрой курице, татарской крошечке-хаврошечке и tall, dark and handsome чекисте, который, конечно, осознает все и исправляется под конец, но настолько идеальный все время, что даже финальная травма его идеальности не портит.
А еще там все страдают, хотя могли бы поговорить. Страдают до тех пор, пока автор не приводит их к финалу - тоже, кстати, символически наполненному. Все заканчивается на обрыве, с которого однажды чуть не сбросился главный герой.
В общем, роман - не мой.
Но мое в нем есть.
Если вся эта ясная выверенность, профессоры эти, уголовники, спившиеся художники и красавчик-чекист - это такой мир явный, осязаемый и видимый, в нем все ясно и потому скучно, то вот мир Зулейхи, хтоническая татарщина, призраки и духи, суеверия и страшная свекровь - это то, о чем я бы не одну книгу прочитала.
И вот как раз свекровь и ее взаимоотношения с героиней (или героини - с ней) и стала тем, чего мне не хватало в более светской, явной части книги.
Мокрая курица, беззащитная и безобидная девонька, которой все помыкают, тоже образ архетипический, въевшийся в культурный код, особенно - в код женских историй. Упыриха, злая ведьма, свекровь или мачеха - не важно, кто - издевается над бедняжкой. Это тоже сказочный сюжет. И прозвучавшие здесь слова о том, что “я бы за такое убила, зачем ты прячешь свою злость”, это тоже то, о чем я бы почитала. И не было бы тогда красивого чекиста, пьяницы и травматика, сбежавшего от двух своих женщин якобы по долгу службы. Было бы что-то другое - и было бы хорошо.
Но, к сожалению, это русская литература, детка, и тут свои законы.
Поэтому Зулейха открыла глаза - и лучше бы не открывала.
Свекромонстр отложил в сторону вязание и поправил очки, потому что пришло время рассказать вам о книге Ульяны Черкасовой “Сокол и ворон”. Я читала эту книгу без малого… два месяца? Или больше? Даже учитывая немаленький объем (почти 1300 страниц в читалке на телефоне!), это много, но прочитать быстрее не получалось. Во-первых, срабатывало мое желание читать вдумчиво, во-вторых, признаюсь честно, были моменты, когда текст шел тяжело. Но обо всем по порядку.
.Аннотация: Древние боги не желают покидать эти земли. Морана-смерть жаждет мести, и её вороны летают повсюду, ищут подходящую жертву. Леший призывает к себе новую лесную ведьму, а Охотники преследуют последних чародеев Рдзении.
В это неспокойное время сошлись пути дочки мельника, княжеского сына, чародея-сокола и его слуги.
Жанры: Славянское фэнтези, приключенческое фэнтези, эпическое фэнтези, с натяжкой - янг-адалт (практически все ключевые персонажи - юноши и девушки в начале своего пути), дарк-фэнтези.
Чего ждать: множество персонажей, несколько переплетающихся сюжетных линий, замечательная атмосфера, прекрасная работа с мифологической базой, мрачнота-крипота, исторические аллюзии, неоднозначные герои.
Чего не ждать: здесь нет доминирующей любовной линии, заклепочничества и акцента на историзме, обращение с мифологией достаточно вольное (автор ловит принцип и меняет базу под себя), а сама история - не из легких, как минимум - в ней достаточно много имен собственных, чтобы в один момент начать их записывать.
Кому: тому, кто ищет вдумчивое чтение не на один вечер и любит русскую демонологию.
Предупреждения: кроме того, о чем автор упоминает в аннотации (кровавые и жестокие сцены действительно есть, хотя мы и пострашнее видали!), в тексте есть пара провисающих сюжетных моментов, тормозящих историю, из-за чего первая половина книги иногда действительно читается медленно. Я бы еще отметила неоднозначный с морально-этической точки зрения характер Дары, главной героини - но о ней расскажу подробнее.
Итак, добро пожаловать в Золотые земли, путник!
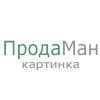
Где-то в глуши, в маленькой деревушке живет себе на мельнице семья, а в этой семье - две девушки, сестры по отцу: Дара и Весняна. И если Весняна - солнышко, лапочка и мамина радость, то Дара, старшая, девица недобрая, да еще и ведьмовским даром отмеченная. Своих она при этом любит и в обиду не дает. Живут неплохо, вокруг время мирное, и только древний лес рядом шумит, а в лесу, говорят, есть избушка лесной ведьмы.
И вот так получается, что забредает в город, в который на ярмарку едут девушки, некто Милош, красавец и ученик чародея, сокол-оборотень, и очень ему нужно, чтобы кто-то проводил его к лесной ведьме, и ради этого он готов и на ласку, и на подлость. Он замечает Дару и думает, что вот она-то, ведьминой силой отмеченная, должна ему помочь, но Дара отказывается (у нее, как у жительницы этих земель, свои взгляды на походы в лес и свои же суеверия), и тогда Милош начинает ее обхаживать.
У Милоша, впрочем, тоже веские основания добиваться своего: текст начинается с того, как он крадет у фарадалов (местный аналог цыган) некий предмет и за эту кражу получает проклятие. Магия может это проклятие вылечить, но путь к магии Милош в одиночку не найдет, поэтому ему нужна Дара.
А Даре он, кобель, не сдался.
И тогда Милош идет на подлость и начинает соблазнять Весю, а та, дурочка, верит в истинную любовь и, конечно, ведется, и Дара, девица, напоминаю, недобрая, решается на недоброе колдовство.
Маленький спойлер, который вам не повредит, потому что все это - лишь завязка истории.
Дара узнает, как заколдовать Милоша, превратить его в сокола навсегда и заставить лететь в Совин, к волшебной башне, прочь отсюда. И Дара делает это. Только вот, помогая сестре, она совершает большое зло, которое ложится на ее совесть, и пробуждает спящую до того момента силу, от которой теперь не избавиться. И путь Даре - только в лесные ведьмы.
Сказочка вроде скоро сказывается, да не все так просто, потому что линия Дара-Весняна-заколдованный жених-сокол - лишь одна из линий, нужная, чтобы отправить Дару в лес, а читателя поглубже в мир заманить и о мире рассказать. О том, что есть Золотые земли, есть Рдзения и Ратиславия, и еще много разных стран. О том, что когда-то давно князь женился на ведьме из леса и с тех пор княжеская кровь - особая. О том, что давно не верят здесь в старых богов, потому что пришли чужаки и принесли веру в бога единого, а ведьм и колдунов извели, волшебство формально запретили, правда, за этим всем особенно не следят. Откуда-то с востока дует ветер войны, с юга тоже ползет что-то неприятное, нечисть так вообще на законы единобожников плевать хотела и резвится, как хочет. Чародей из Совина ищет своего ученика, превращенного в сокола. Княжий сын - блуждает по болотам в поисках новой лесной ведьмы. Девушка по имени Веся выходит из родительского дома, чтобы спасти жениха. Лесная ведьма прячется в глубине леса - и учится колдовству. Все эти ниточки, которые по началу кажутся не совсем между собой связанными, на самом деле ведут героев вперед, к чему-то особенному, и каждый из них на этом пути меняется. Через боль, пот и слезы, конечно, как без этого.
“Сокол и ворон” - фэнтези в первую очередь эпическое, и эпическим его делает этот вот авторский размах: минимум три сюжетные линии, связанные с минимум пятью главными персонажами, отлично продуманный бекграунд мира, все эти завязанные воедино страны, политика, дипломатия и войны, которые, на самом деле, не прекращаются. И, что радует, весь этот политико-эпический клубок не превращается в сухое перечисление фактов и событий (ну, окей, будем честными, кое-где живости не хватало), а живет и дышит, потому что автор показывает разницу ментальностей, автор играет в игру “свой-чужой”, автор продумал колорит и хочет его показать - через детали быта, поговорки, ворчание, костюмы и обряды.
Вторая особенность истории - потрясающей силы мифологизация. Черкасова не просто использует около-славянский колорит (назвать его строго “славянским” не получается, слишком много там всего намешано), она через фольклорные элементы показывает внутренний мир героев, населяющих ее текст. Здесь все живет и дышит, во всем есть своя магия: в реке, в лесу, в животных, в деревьях, в колосьях пшеницы на поле. Магическая система основана на этом вот мифологизме, она не строгая, еще не научная, не запертая в клетку классификаций и схем - в силу менталитета и развития общества. Все может стать магией и частью ритуала, многие бытовые действия ритуализированы - и автор отлично понимает, какой смысл в них должен быть вложен. Магию используют и боятся, волшебников уважают и преследуют - все зависит от того, куда вам удалось попасть и с кем пообщаться.
И последнее, третье, важное и хорошее, это атмосфера. Конечно, как мне показалось, атмосфера вытянута не во всех эпизодах и локациях, куда авторская фантазия забрасывает героев (и читателя заодно). Особенно - по началу, но было такое впечатление, что где-то автор сам чувствует себя чужаком, поэтому детали мира и ощущения выдает скупо, скудно, неуверенно. Зато стоит открыть дверь куда-нибудь, где автору нравится, как начинаются чудеса: лес, болото, полузаброшенные деревни, сельская ночь и раннее утро в поле, мрачные туманные поля, снова лес, но уже другой, в котором автор знает каждуют тропинку, форму листьев и то, как пахнут травы и как холодна родниковая вода. Это тоже своего рода магия: мир получается живым и осязаемым (и когда герои выходят из теплой бани в позднюю осень, чувствуешь холод на разгоряченной коже вместе с ними).
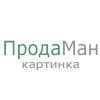
Но, повторюсь, начинается это не сразу, придется потерпеть, пока автор раскачается, разогреется и поймет, что у него там происходит такого и как об этом рассказать.
И вот тут мы переходим к самой неприятной для автора части, в которой я, поправив на носу очки, перечислю все то, что сделало текст не настолько хорошим, насколько он мог бы быть. Терпеть не могу цепляться к конкретным словам, мелким неточностям лексики и таким же мелким сюжетным ляпам, поэтому речь пойдет, скажем, о системных ошибках.
Если говорить вообще, то я бы сформулировала это так: “Сокол и ворон” - книга (и мир!), которая куда больше своего автора, и Ульяна, пусть и старательно тянется к своему творению, не всегда дотягивает. Тот текст, который я читала, похож не на итог, а на хороший, законченный, структурированный черновик, которому нужно полежать, пока автор дописывает вторую часть и, как я понимаю, заканчивает историю. После этого, с вершины горы, многое будет куда понятнее и яснее, и те места, которые сейчас провисают, можно будет вытянуть на нужный уровень.
Если говорить конкретнее, то… по порядку.
Экспозиция и презентация персонажей. Героев в книге много, но не все они запоминаются четко и сразу. Милошу, Ежи, Вячко и еще кому-то экранного времени отведено с достатком. Их цели и ставки ясны, их характер считывается и угадывается, читатель понимает их роль в истории и начинает немного предугадывать события. А вот, к примеру, Ярополк, хотя и взаимодействует с главными героями активно (вспомнить хотя бы его поступки в отношении Дары), так же ясно и четко не показан. У него есть имя, статус, даже характер - но где он сам? Одно дело - некто таинственный (вроде болотной ведьмы), кого читатель воспринимает через действия и зрение основных персонажей, или некто малозначимый, функция по отношению к героям (как Тавруй). Другое дело - герой проактивный, важный, толкающий сюжет вперед. Из-за этого иногда говоришь себе “так, стоп, а это кто и откуда он взялся?” и, конечно процесс чтения замедляется.
Я не люблю все это не потому что у меня свой взгляд на то, что было, а, скорее, потому что этого взгляда у меня нет. Не хочу туда лезть, потому что оно меня сожрет. Я читаю не потому что тема - правильная, а потому что мне нравится то, о чем и как. Соответственно, когда мне не нравится, о чем и как, когда книга мне ничего не дает, ни духовного, ни сердечного, ни знаний, ни повода позлословить, я ее не читаю.
Вокруг “Зулейхи” я ходила кругами с 2015 года. Сначала у меня был какой-то энтузиазм, путь женщины же, важная тема! Потом этот энтузиазм пропал. Книга лежала дома, пока мне не пришлось читать ее ради обсуждения в клубе. В книге оказался автограф автора, такие вот дела. Очень я внимательная, да.
Прочитала я ее в итоге быстро - суммарно меньше, чем за сутки. Что-то нравилось, что-то вызывало вопросы, что-то страшно триггернуло, но так или иначе - и вот мы здесь.
История тихой татарской женщины, сосланной в Сибирь после раскулачивания, наверное, должна была меня тронуть за живое, ведь тут есть все для этого: и почти сказочный зачин, когда бедная сиротка страдает в чужой семье, и страшные трагедии внутри и вокруг, и медленно разрушающийся мир, и окружающие героиню чужие беды и судьбы, одна другой кинематографичнее, и мужчина красивый, и трансформация, и выживач в лесах, и дитятка от погибшего мужа, и снег, и поезда, идущие по полгода… Но чуда не произошло.
Самое глубокое эмоциональное потрясение за всю книгу - сцена тонущей баржи. Не потому что сочувствие к бедным людям и не менее бедному красавчику-герою, а потому что личный триггер, ужас от сцен, где люди в замкнутом пространстве и прибывает вода. В этот момент я пожалела, что не бросила чтение, и решила, что точно дочитаю. Зря я тут триггерюсь, что ли?
Основная проблема “Зулейхи” для меня - это ее восхитительная сделанность. Восхитительная - без сарказма. Роман написан прекрасно, он техничен, в нем и отличный язык, емкий и четкий, и не менее отличный сюжет - одна основная линия и множество мелких побочных, создающих объемное в пространстве и времени произведение. Он охватывает кусок эпохи, оставаясь при том историей одного человека (окей, историей двух человек, а потом - двух с половиной). В нем чувствуется сценарное происхождение - вплоть до акцентов и деталей в некоторых сценах, которые легко перенести на экран (почти по учебнику, деталь, раскрывающая образ персонажа, яркий чемоданчик, ружье или красные губы). Бег сюжета стремителен, каждая сцена полна напряжения, каждая арка завершена и выверена, но…
Но что-то не то.
Остается ощущение, что все элементы текста - и старый профессор с поехавшей от потрясений кукухой, и питерские интеллигенты, комплектом, и две женщины героя, яркая и тихая, и сам герой, и любовь Зулейхи к сыну - это механически соединенные между собой детали. Они выигрышны, они нацелены на то, чтобы читатель все правильно понял, считал - и проникся. Это узнаваемые образы, архетипические почти, но глубины переосмысления в них нет. Местный урка, плохиш и сволочь, даже говорит так, словно автор со словарем сидела и проверяла, как по фене ботать. Ничто не повернулось ко мне другой стороной, ничто не отозвалось, не было удивительных трансформаций (кроме одной, о ней чуть ниже), не было ужасающих открытий. Точнее, были, но не мои.
Это добрая рецензия, поэтому я так и говорю: книга хорошая, но не моя.
В плохой рецензии я скажу, что при другом прочтении “Зулейха” станет сентиментальным романом о мокрой курице, татарской крошечке-хаврошечке и tall, dark and handsome чекисте, который, конечно, осознает все и исправляется под конец, но настолько идеальный все время, что даже финальная травма его идеальности не портит.
А еще там все страдают, хотя могли бы поговорить. Страдают до тех пор, пока автор не приводит их к финалу - тоже, кстати, символически наполненному. Все заканчивается на обрыве, с которого однажды чуть не сбросился главный герой.
В общем, роман - не мой.
Но мое в нем есть.
Если вся эта ясная выверенность, профессоры эти, уголовники, спившиеся художники и красавчик-чекист - это такой мир явный, осязаемый и видимый, в нем все ясно и потому скучно, то вот мир Зулейхи, хтоническая татарщина, призраки и духи, суеверия и страшная свекровь - это то, о чем я бы не одну книгу прочитала.
И вот как раз свекровь и ее взаимоотношения с героиней (или героини - с ней) и стала тем, чего мне не хватало в более светской, явной части книги.
Мокрая курица, беззащитная и безобидная девонька, которой все помыкают, тоже образ архетипический, въевшийся в культурный код, особенно - в код женских историй. Упыриха, злая ведьма, свекровь или мачеха - не важно, кто - издевается над бедняжкой. Это тоже сказочный сюжет. И прозвучавшие здесь слова о том, что “я бы за такое убила, зачем ты прячешь свою злость”, это тоже то, о чем я бы почитала. И не было бы тогда красивого чекиста, пьяницы и травматика, сбежавшего от двух своих женщин якобы по долгу службы. Было бы что-то другое - и было бы хорошо.
Но, к сожалению, это русская литература, детка, и тут свои законы.
Поэтому Зулейха открыла глаза - и лучше бы не открывала.
Глава двенадцатая: Ульяна Черкасова "Сокол и ворон"
Свекромонстр отложил в сторону вязание и поправил очки, потому что пришло время рассказать вам о книге Ульяны Черкасовой “Сокол и ворон”. Я читала эту книгу без малого… два месяца? Или больше? Даже учитывая немаленький объем (почти 1300 страниц в читалке на телефоне!), это много, но прочитать быстрее не получалось. Во-первых, срабатывало мое желание читать вдумчиво, во-вторых, признаюсь честно, были моменты, когда текст шел тяжело. Но обо всем по порядку.
.Аннотация: Древние боги не желают покидать эти земли. Морана-смерть жаждет мести, и её вороны летают повсюду, ищут подходящую жертву. Леший призывает к себе новую лесную ведьму, а Охотники преследуют последних чародеев Рдзении.
В это неспокойное время сошлись пути дочки мельника, княжеского сына, чародея-сокола и его слуги.
Жанры: Славянское фэнтези, приключенческое фэнтези, эпическое фэнтези, с натяжкой - янг-адалт (практически все ключевые персонажи - юноши и девушки в начале своего пути), дарк-фэнтези.
Чего ждать: множество персонажей, несколько переплетающихся сюжетных линий, замечательная атмосфера, прекрасная работа с мифологической базой, мрачнота-крипота, исторические аллюзии, неоднозначные герои.
Чего не ждать: здесь нет доминирующей любовной линии, заклепочничества и акцента на историзме, обращение с мифологией достаточно вольное (автор ловит принцип и меняет базу под себя), а сама история - не из легких, как минимум - в ней достаточно много имен собственных, чтобы в один момент начать их записывать.
Кому: тому, кто ищет вдумчивое чтение не на один вечер и любит русскую демонологию.
Предупреждения: кроме того, о чем автор упоминает в аннотации (кровавые и жестокие сцены действительно есть, хотя мы и пострашнее видали!), в тексте есть пара провисающих сюжетных моментов, тормозящих историю, из-за чего первая половина книги иногда действительно читается медленно. Я бы еще отметила неоднозначный с морально-этической точки зрения характер Дары, главной героини - но о ней расскажу подробнее.
Итак, добро пожаловать в Золотые земли, путник!

Где-то в глуши, в маленькой деревушке живет себе на мельнице семья, а в этой семье - две девушки, сестры по отцу: Дара и Весняна. И если Весняна - солнышко, лапочка и мамина радость, то Дара, старшая, девица недобрая, да еще и ведьмовским даром отмеченная. Своих она при этом любит и в обиду не дает. Живут неплохо, вокруг время мирное, и только древний лес рядом шумит, а в лесу, говорят, есть избушка лесной ведьмы.
И вот так получается, что забредает в город, в который на ярмарку едут девушки, некто Милош, красавец и ученик чародея, сокол-оборотень, и очень ему нужно, чтобы кто-то проводил его к лесной ведьме, и ради этого он готов и на ласку, и на подлость. Он замечает Дару и думает, что вот она-то, ведьминой силой отмеченная, должна ему помочь, но Дара отказывается (у нее, как у жительницы этих земель, свои взгляды на походы в лес и свои же суеверия), и тогда Милош начинает ее обхаживать.
У Милоша, впрочем, тоже веские основания добиваться своего: текст начинается с того, как он крадет у фарадалов (местный аналог цыган) некий предмет и за эту кражу получает проклятие. Магия может это проклятие вылечить, но путь к магии Милош в одиночку не найдет, поэтому ему нужна Дара.
А Даре он, кобель, не сдался.
И тогда Милош идет на подлость и начинает соблазнять Весю, а та, дурочка, верит в истинную любовь и, конечно, ведется, и Дара, девица, напоминаю, недобрая, решается на недоброе колдовство.
Маленький спойлер, который вам не повредит, потому что все это - лишь завязка истории.
Дара узнает, как заколдовать Милоша, превратить его в сокола навсегда и заставить лететь в Совин, к волшебной башне, прочь отсюда. И Дара делает это. Только вот, помогая сестре, она совершает большое зло, которое ложится на ее совесть, и пробуждает спящую до того момента силу, от которой теперь не избавиться. И путь Даре - только в лесные ведьмы.
Сказочка вроде скоро сказывается, да не все так просто, потому что линия Дара-Весняна-заколдованный жених-сокол - лишь одна из линий, нужная, чтобы отправить Дару в лес, а читателя поглубже в мир заманить и о мире рассказать. О том, что есть Золотые земли, есть Рдзения и Ратиславия, и еще много разных стран. О том, что когда-то давно князь женился на ведьме из леса и с тех пор княжеская кровь - особая. О том, что давно не верят здесь в старых богов, потому что пришли чужаки и принесли веру в бога единого, а ведьм и колдунов извели, волшебство формально запретили, правда, за этим всем особенно не следят. Откуда-то с востока дует ветер войны, с юга тоже ползет что-то неприятное, нечисть так вообще на законы единобожников плевать хотела и резвится, как хочет. Чародей из Совина ищет своего ученика, превращенного в сокола. Княжий сын - блуждает по болотам в поисках новой лесной ведьмы. Девушка по имени Веся выходит из родительского дома, чтобы спасти жениха. Лесная ведьма прячется в глубине леса - и учится колдовству. Все эти ниточки, которые по началу кажутся не совсем между собой связанными, на самом деле ведут героев вперед, к чему-то особенному, и каждый из них на этом пути меняется. Через боль, пот и слезы, конечно, как без этого.
“Сокол и ворон” - фэнтези в первую очередь эпическое, и эпическим его делает этот вот авторский размах: минимум три сюжетные линии, связанные с минимум пятью главными персонажами, отлично продуманный бекграунд мира, все эти завязанные воедино страны, политика, дипломатия и войны, которые, на самом деле, не прекращаются. И, что радует, весь этот политико-эпический клубок не превращается в сухое перечисление фактов и событий (ну, окей, будем честными, кое-где живости не хватало), а живет и дышит, потому что автор показывает разницу ментальностей, автор играет в игру “свой-чужой”, автор продумал колорит и хочет его показать - через детали быта, поговорки, ворчание, костюмы и обряды.
Вторая особенность истории - потрясающей силы мифологизация. Черкасова не просто использует около-славянский колорит (назвать его строго “славянским” не получается, слишком много там всего намешано), она через фольклорные элементы показывает внутренний мир героев, населяющих ее текст. Здесь все живет и дышит, во всем есть своя магия: в реке, в лесу, в животных, в деревьях, в колосьях пшеницы на поле. Магическая система основана на этом вот мифологизме, она не строгая, еще не научная, не запертая в клетку классификаций и схем - в силу менталитета и развития общества. Все может стать магией и частью ритуала, многие бытовые действия ритуализированы - и автор отлично понимает, какой смысл в них должен быть вложен. Магию используют и боятся, волшебников уважают и преследуют - все зависит от того, куда вам удалось попасть и с кем пообщаться.
И последнее, третье, важное и хорошее, это атмосфера. Конечно, как мне показалось, атмосфера вытянута не во всех эпизодах и локациях, куда авторская фантазия забрасывает героев (и читателя заодно). Особенно - по началу, но было такое впечатление, что где-то автор сам чувствует себя чужаком, поэтому детали мира и ощущения выдает скупо, скудно, неуверенно. Зато стоит открыть дверь куда-нибудь, где автору нравится, как начинаются чудеса: лес, болото, полузаброшенные деревни, сельская ночь и раннее утро в поле, мрачные туманные поля, снова лес, но уже другой, в котором автор знает каждуют тропинку, форму листьев и то, как пахнут травы и как холодна родниковая вода. Это тоже своего рода магия: мир получается живым и осязаемым (и когда герои выходят из теплой бани в позднюю осень, чувствуешь холод на разгоряченной коже вместе с ними).

Но, повторюсь, начинается это не сразу, придется потерпеть, пока автор раскачается, разогреется и поймет, что у него там происходит такого и как об этом рассказать.
И вот тут мы переходим к самой неприятной для автора части, в которой я, поправив на носу очки, перечислю все то, что сделало текст не настолько хорошим, насколько он мог бы быть. Терпеть не могу цепляться к конкретным словам, мелким неточностям лексики и таким же мелким сюжетным ляпам, поэтому речь пойдет, скажем, о системных ошибках.
Если говорить вообще, то я бы сформулировала это так: “Сокол и ворон” - книга (и мир!), которая куда больше своего автора, и Ульяна, пусть и старательно тянется к своему творению, не всегда дотягивает. Тот текст, который я читала, похож не на итог, а на хороший, законченный, структурированный черновик, которому нужно полежать, пока автор дописывает вторую часть и, как я понимаю, заканчивает историю. После этого, с вершины горы, многое будет куда понятнее и яснее, и те места, которые сейчас провисают, можно будет вытянуть на нужный уровень.
Если говорить конкретнее, то… по порядку.
Экспозиция и презентация персонажей. Героев в книге много, но не все они запоминаются четко и сразу. Милошу, Ежи, Вячко и еще кому-то экранного времени отведено с достатком. Их цели и ставки ясны, их характер считывается и угадывается, читатель понимает их роль в истории и начинает немного предугадывать события. А вот, к примеру, Ярополк, хотя и взаимодействует с главными героями активно (вспомнить хотя бы его поступки в отношении Дары), так же ясно и четко не показан. У него есть имя, статус, даже характер - но где он сам? Одно дело - некто таинственный (вроде болотной ведьмы), кого читатель воспринимает через действия и зрение основных персонажей, или некто малозначимый, функция по отношению к героям (как Тавруй). Другое дело - герой проактивный, важный, толкающий сюжет вперед. Из-за этого иногда говоришь себе “так, стоп, а это кто и откуда он взялся?” и, конечно процесс чтения замедляется.
