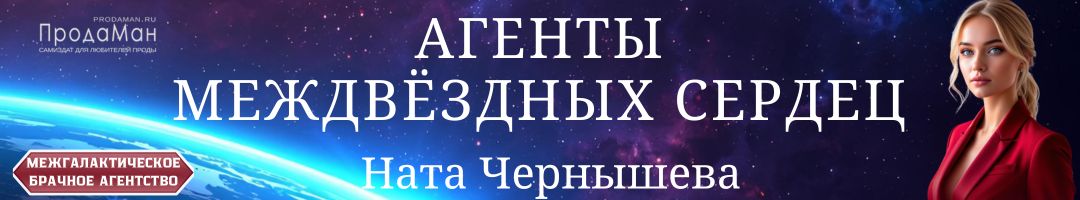Королева подозвала Фогеля и что-то сказала ему. Тот утвердительно кивнул, поклонился, а потом обратился к старосте, не к кузнецу; голос его звучал холодно, словно он жалел для неученого простолюдина лишнего слова.
– Если этот человек вправду любит детей своего брата как родных, сердце его должно преисполниться смиренной радости и благодарности за то, что сама королева позаботилась об их воспитании. Девица же и ее малолетний брат отныне под защитой нашей доброй повелительницы, и да будет так, пока госпожа не пожелает иного!
Понукаемый старостой, кузнец вышел на середину зала и медленно поклонился сначала королеве, а затем ее свите…
Тирбсте находился недалеко от королевского замка, и Анастази рассчитывала вернуться в Вальденбург к ночи, но вечером разразилась гроза, сменившаяся сначала ливнем, а потом унылым, беспросветно-скучным дождем. Ехать назад в темноте, по размокшей дороге, показалось глупым и опасным, и королева приняла решение остаться в селении до утра. Ее свита разместилась в домах местных жителей, а сама Анастази, ее верная Альма и несколько воинов остановились в доме для собраний, на втором этаже которого имелись комнаты для гостей.
В тепле большого зала, у очага, Анастази до поздней ночи слушала своих подданных, смеялась их шуткам и подпевала незатейливым песням, а Лео жадно смотрел на нее, время от времени напоминая себе – не будь так откровенен, это могут заметить! Дождись, когда потушат огни, и сама ночь со всеми ее чудищами, тучами и звездами станет на стражу…
Что ж, едва настало подходящее время, ноги сами принесли его к заветной двери. Помещение, в котором остановилась королева, разделялось деревянной перегородкой на две комнатки, в передней из которых должна была ночевать Альма. Лео столкнулся с ней у самого входа – служанка только что помогла госпоже умыться и раздеться.
И чем отговариваться теперь, когда все очевидно?..
Но она ни о чем не спросила, лишь быстро глянула ему за плечо, словно желала убедиться, что он пришел один. Значит, и вправду уже обо всем знала и приняла сторону своей госпожи.
Лео улыбнулся, хотя Альма смотрела на него с явным отвращением. Ей не нравились ни его веселость, ни взгляд, которым он в предвкушении любовных утех окинул комнатушку, – и служанка стояла прямо на пути, словно менестрель был нежеланным гостем.
– Вам следовало бы усердней заботиться о чести дамы, мой господин.
– Ты впустишь меня или будешь надоедать разговорами?
– Не забудьте хотя бы запереть вторую дверь…
Альма нехотя посторонилась, пропуская его и делая вид, что не заметила, как он небрежно бросил на ее постель серебряную монету.
Он вошел в комнатку, и Анастази, уже лежавшая в постели, с тихим, радостным возгласом выпрямилась ему навстречу; полупрозрачная накидка, в которую она куталась, соскользнула вниз, обнажая плечи и небольшие, красивой формы груди.
Лео на мгновение опустил глаза.
– Надеюсь, просители не слишком утомили тебя, королева?
Анастази похлопала по постели, приглашая его устроиться рядом; а едва он приблизился, протянула руку, которую менестрель поцеловал нарочито церемонно.
– Нет, они меня позабавили. Староста, и в особенности его жена, что в добродетельности своей постоянно печется лишь о чужих грехах…
Она умолкла, едва пальцы Лео – уже под покрывалом – коснулись ее ног, и теперь смотрела на любовника прямо, без всякого смущения.
– Вообрази, что бы она сказала об этом, – Лео поглаживал ее бедро и живот, становясь все настойчивей. – Моя королева, ты и вправду пожалела маленькую золотошвейку – теперь, думаю, можно называть ее так? Воистину, твоей щедрости нет предела! А ты не думаешь, что этот никчемный болван может напасть на девчонку – из злобы, от желания отомстить, и она попросту не доедет до Керна?
– Ну, мой милый Лео, она же поедет туда не одна! – Анастази вдруг откинула покрывало и быстро прильнула к нему. – В Керн отправляются Зейдек и несколько моих фрейлин. Я велела им… О, не так быстро, подожди… А оставлять ее здесь просто глупо… Ты видел, какие чудесные вещи она делает?..
Лео не ответил, мгновенно охмелев от ее наготы, от нежданной, счастливой возможности ласкать, облизывать груди, бедра и особенно те сокровенные части тела, о прикосновении к которым столь бесстыдно мечтал днем.
Целуя, играя язык с языком, торопливо распутывал завязки исподнего. Потом одним резким, неловким движением, через голову, сдернул сразу и котту, и нижнюю рубашку.
– Погоди… Единственное мгновение, моя королева…
Отстранился, чтобы снять оставшуюся одежду, досадуя на то, что, должно быть, выглядит нелепо – но, когда выпрямился, Анастази наблюдала за ним, и ее взгляд был полон восхищения.
Придвинулась к самому краю постели, медленно провела ладонями по его телу – от плеч, по груди, коснувшись локтей, а потом по животу и до самых бедер, чуть царапая ногтями:
– Прекрасен… О, как вовремя началась эта гроза… теперь я всегда буду любить непогоду!
Обвила руками его шею. Он снова сжал ее в объятиях, стараясь не торопиться – но разве можно долго сдерживаться, когда рядом с тобой желанная женщина? Анастази лишь тихо смеялась, уступая, выгибаясь, подставляя соски его поцелуям; прижималась так близко, что ощущала, как его член упирается в самый низ ее живота.
Лео подался вперед, подхватив чуть ниже бедра, тяжестью своего тела заставляя опрокинуться навзничь; ее ноги раздвинулись легко, словно бы без малейшего участия ее собственной воли.
Мокрое, манящее тепло женского лона; усилие, еще…
Ответом – короткие выдохи, едва сдерживаемые стоны. Она, жарко тающая, истомленная, позволяющая пользоваться собой как ему угодно – лишь бы не прерывать…
– Тише, – то и дело шептал он, касался пальцами ее горячего рта, а сам желал ее крика, который заставлял острее чувствовать наслаждение, но, несомненно, погубил бы их обоих.
В этот раз они обладали друг другом особенно страстно, нетерпеливо и алчно; переставлялись местами столько раз, сколько хотели. И вместе устали, и долго лежали, не разъединяя объятий, он – в ней, она – обняв его красивые плечи, запрокинув лицо к окну, задумчивая и счастливая. Лео с ленивой нежностью поглаживал ее согнутую в колене ногу.
Огонек стоящей на столе лучины все это время мерцал, дрожал пугливо, неверно, а потом угас совсем; заметив это, любовники только тихо рассмеялись.
– Позвать Альму?
Анастази уткнулась лицом ему в шею.
– «С любимым лежа, не боишься темноты» – так, кажется, поется?.. Чтобы видеть, как ты прекрасен, мне не нужен свет. Да и заставлять ее завидовать нашему счастью, по-моему, слишком жестоко, Лео.
…Прежде чем улечься, Альма еще раз тщательно проверила двери, задула свечу. Служанке было не до сна, она чутко прислушивалась к тому, что происходит в соседней комнатке. Пару раз пришлось встать и осторожно постучать в дверь, чтобы любовники вели себя потише – казалось, их возня, смешки и шепоты способны разбудить весь Тирбсте.
В остальном доме не раздавалось ни звука.
Будь Альма чуть спокойнее, она бы вполне могла услышать храп спящих в нижней комнате, у теплого еще очага, вальденбургских ратников, полусонное воркование голубей в стропилах под самой крышей, и много других, всегда непонятно-таинственных ночных шорохов. Но, стоя в темноте, краснея от стыда за чужое совокупление, совершавшееся будто у всех на виду, она вдруг словно взглянула на себя со стороны – испуганную, напряженную, с растрепанными волосами и в одной нижней рубашке. И чем же она занята, верная служанка королевы? Покрывает ее шашни с безродным менестрелем?!
…Ему пришлось убраться из теплой постели госпожи задолго до рассвета, растянуться на жесткой лавке в тесной и низкой каморке под самым скатом крыши, по которой все так же уныло барабанил дождь. Кровля прохудилась, вода капала на пол – тут и там на досках расплылись темные пятна. Пахло пылью, мокрым деревом и птичьим пометом. Лео задремал, положив голову на согнутую в локте руку и укрывшись плащом, как в давние времена, когда, кроме надетой на нем одежды, у него ничего и не было.
Одна ножка у лавки оказалась короче других, и глухо, сердито стукала в пол при любой попытке пошевелиться, а само ложе, отполированное сотнями прикасавшихся к нему ладоней и седалищ, опасно кренилось, словно недовольное тем, что его продолжают так бессовестно использовать и после того, как оттащили на чердак. Но зато Лео был здесь один, к тому же, поднимаясь по узкой деревянной лесенке, никого не встретил и мог надеяться, что о его ночном визите к королеве никто не узнает.
К утру дождь почти перестал, и лишь время от времени на крышу глухо и тяжело падали запоздалые капли. Раз в мутной еще, сырой тьме предрассветья послышались тихие шаги – то возвращались с тайного свидания влюбленные. Юноша что-то говорил, тихо, неразборчиво, девушка все больше молчала, но венцом беседы, как и принято в таких случаях, стал поцелуй.
…Все, что поется про непотребных девок и их умения – сущие глупости, которыми можно обмануть лишь юнцов да моих не слишком разборчивых собратьев-менестрелей, неспешно и утомленно думал Лео, на мгновение проснувшись от хриплого крика петуха под окном, и снова проваливаясь в дремоту. Что с них взять, если каждая третья стыдится показаться мужчине голой?..
«Коль говорю, так верьте мне:
Кто круглый год своей жене
Наряды дорогие шьет, не о себе печется:
Ему не выпал бы почет,
Что и чужого в свой черед
Нести крестить придется…» *
– Что за мерзкие стишки? Хоть и складные, даром что сочинил их, наверняка, какой-нибудь нищеброд, охальник и пьяница! Удо, поведай мне, с каких это пор королевский паж позволяет себе читать подобную дрянь?! Кто дал тебе эту записку?
– Простите, мой король! Песенку я услышал в Гюнттале, на празднике. Там же мне продали несколько таких листков. Стишки, разные занятные картинки…
– Представляю, что изображено на тех картинках! Дорого заплатил?..
Удо потупился. Видимо, цена для него была почти непомерной.
– Разве тебе не известно, юный неслух, что есть и другие песни, поприличнее?.. И есть поэты, коими воспеты подвиги героев и мудрость королей, а не приключения легкомысленных девиц да жадных до почестей проходимцев… И тебе не следует подхватывать всякую чушь, которая годится разве что для кабака!
Юноша слушал, уставившись в пол. Торнхельм, смягчившись, добавил:
– В мире много поэтов и певцов, куда более достойных внимания, Удо. Тот же Герхард фон Эрвель. У него можно услышать и о силе духа, помогающей преодолевать препятствия, и о тоске молодой женщины, возлюбленный которой отправился в далекие земли за ратной славой, верный данному обету, да и просто о счастье тихой, созерцательной жизни в уединении и ладу с миром! Разве может эта дрянь сравниться с его высоким искусством…
Торнхельм говорил совершенно искренне, ибо однажды ему довелось слушать фон Эрвеля при одном из княжеских дворов, и тогда король щедро вознаградил менестреля. Тот принял поощрение от короля с благодарностью и подобающим смирением. Ему, младшему сыну благородного рыцаря, обделенному наследством, каждая монета приходилась весьма кстати, хотя сам он никогда не требовал награды за свое мастерство, ибо слыл человеком гордым, даже сварливым.
И все же хорошо, что Ази была не слишком настойчива в своих просьбах пригласить его, сманив приличным содержанием и обещанием всеобщего почета, к вальденбургскому двору. Кто знает, о чем бы он стал петь, окажись здесь?
Злополучный листок все еще лежал под ладонью, и Торнхельм, сам не замечая того, медленно смял его.
– Дозволь мне сжечь его, мой король, – виновато прошептал Удо, но Торнхельм предостерегающе поднял руку.
– Королева, твоя извечная заступница, по-видимому, вернется в Вальденбург только завтра, когда утихнет гроза. Она заботится о тебе, называет милым юношей и самым верным из своих паладинов. Поверь мне, она не одобрит то, чем ты развлекаешься на досуге, которого, видимо, у тебя слишком много.
Удо был удручен до такой степени, что едва сдерживался, чтобы не расплакаться, и сейчас особенно бросалось в глаза, что он еще очень юн. Королю даже стало немного жаль пажа. Что ж, впредь будет наука, тем более что Анастази наверняка не станет судить своего любимца слишком уж сурово.
Торнхельм велел ему отправляться спать. За окном размеренно и докучливо шумел дождь, сгустившуюся в зале тьму разгоняло лишь неровное пламя в камине, и этой одинокой ночью сомнения пуще прежнего одолевали вальденбургского владыку.
Он давно чувствовал, что королеву мучает что-то, что она желала бы скрыть, но что проявлялось в мелочах – непривычной задумчивости, ответах невпопад, внезапной, словно лавина в горах, нежности. Однако она не считала возможным разделить с ним причины своей тревоги – только бесконечно целовала, гладила его лицо, плечи, руки, словно любуясь.
Умалчивает, а значит – не верит? Не надеется, что он сумеет помочь? Или, может, произошло что-то, о чем она просто не желает говорить? Впрочем, возможно, все это пустяки, глупые домыслы, и незачем выставлять себя легковерным и глупым ревнивцем…
Он представил, как пересказывает это недоразумение Анастази, почти услышал ее смех. Разве женщине можно запретить – пусть порхает, покуда ей нравится…
Ему и теперь было хорошо с ней почти так же, как во время медового месяца – в ее присутствии он оттаивал, становился разговорчив и весел. Видя его радость, Анастази тоже веселела, и к ней возвращалась легкость нрава. А едва она становилась такой, как прежде, Торнхельм отметал собственные тревожные предчувствия, с усмешкой думая, что, должно быть, это приближающаяся старость выкидывает такие шутки.
Что ж, королева еще молода, а ему, угрюмому затворнику, следовало бы понимать, что рано или поздно все это будет выглядеть именно так – и любой, кто мнит себя острословом, не упустит случая поупражняться в насмешках. А если слишком долго повторять нелепый слух, он становится весьма похож на правду.
Наконец дождь как будто перестал. Стало совсем тихо – лишь над башнями кружили ночные птицы, вскрикивали глухо, будто издалека.
Король сидел неподвижно, глядя в огонь.
Анастази вернулась из Тирбсте немного раньше полудня. Сразу заметила, что Торнхельм раздражен; насторожилась, не понимая, чем это вызвано.
– Звезды всего лишь раз успели сменить солнце, а я, возвращаясь в Вальденбург, нахожу в тебе такую перемену, мой возлюбленный супруг. Что произошло?
– Вот, изволь полюбопытствовать! – Торнхельм указал ей на лежащий на столе прямоугольник пергамента. – Что скажешь?
Анастази не спеша прочитала. Неприличный намек был весьма прозрачен, и королева почувствовала, как кровь приливает к щекам.
Небрежным, будто бы случайным движением она поднесла листок ближе к груди, чтобы стоявшая рядом Альма не могла ничего прочесть. Сам по себе похабный стишок ничего не значит, а волноваться – значит выдать себя…
Она не ведала, какая причина побудила Торнхельма показать ей это, а потому еще раз пробежала взглядом по строкам, вопросительно приподняла бровь, взглянула на мужа.
– Этот и некоторые другие стишки хорошо известны в небольших княжествах к югу от Рейна – там в большой чести беспутные стихоплеты. Иногда их вирши переписывают и продают на больших ярмарках, вроде леденской или стакезейской.
– Если этот человек вправду любит детей своего брата как родных, сердце его должно преисполниться смиренной радости и благодарности за то, что сама королева позаботилась об их воспитании. Девица же и ее малолетний брат отныне под защитой нашей доброй повелительницы, и да будет так, пока госпожа не пожелает иного!
Понукаемый старостой, кузнец вышел на середину зала и медленно поклонился сначала королеве, а затем ее свите…
Тирбсте находился недалеко от королевского замка, и Анастази рассчитывала вернуться в Вальденбург к ночи, но вечером разразилась гроза, сменившаяся сначала ливнем, а потом унылым, беспросветно-скучным дождем. Ехать назад в темноте, по размокшей дороге, показалось глупым и опасным, и королева приняла решение остаться в селении до утра. Ее свита разместилась в домах местных жителей, а сама Анастази, ее верная Альма и несколько воинов остановились в доме для собраний, на втором этаже которого имелись комнаты для гостей.
В тепле большого зала, у очага, Анастази до поздней ночи слушала своих подданных, смеялась их шуткам и подпевала незатейливым песням, а Лео жадно смотрел на нее, время от времени напоминая себе – не будь так откровенен, это могут заметить! Дождись, когда потушат огни, и сама ночь со всеми ее чудищами, тучами и звездами станет на стражу…
Что ж, едва настало подходящее время, ноги сами принесли его к заветной двери. Помещение, в котором остановилась королева, разделялось деревянной перегородкой на две комнатки, в передней из которых должна была ночевать Альма. Лео столкнулся с ней у самого входа – служанка только что помогла госпоже умыться и раздеться.
И чем отговариваться теперь, когда все очевидно?..
Но она ни о чем не спросила, лишь быстро глянула ему за плечо, словно желала убедиться, что он пришел один. Значит, и вправду уже обо всем знала и приняла сторону своей госпожи.
Лео улыбнулся, хотя Альма смотрела на него с явным отвращением. Ей не нравились ни его веселость, ни взгляд, которым он в предвкушении любовных утех окинул комнатушку, – и служанка стояла прямо на пути, словно менестрель был нежеланным гостем.
– Вам следовало бы усердней заботиться о чести дамы, мой господин.
– Ты впустишь меня или будешь надоедать разговорами?
– Не забудьте хотя бы запереть вторую дверь…
Альма нехотя посторонилась, пропуская его и делая вид, что не заметила, как он небрежно бросил на ее постель серебряную монету.
Он вошел в комнатку, и Анастази, уже лежавшая в постели, с тихим, радостным возгласом выпрямилась ему навстречу; полупрозрачная накидка, в которую она куталась, соскользнула вниз, обнажая плечи и небольшие, красивой формы груди.
Лео на мгновение опустил глаза.
– Надеюсь, просители не слишком утомили тебя, королева?
Анастази похлопала по постели, приглашая его устроиться рядом; а едва он приблизился, протянула руку, которую менестрель поцеловал нарочито церемонно.
– Нет, они меня позабавили. Староста, и в особенности его жена, что в добродетельности своей постоянно печется лишь о чужих грехах…
Она умолкла, едва пальцы Лео – уже под покрывалом – коснулись ее ног, и теперь смотрела на любовника прямо, без всякого смущения.
– Вообрази, что бы она сказала об этом, – Лео поглаживал ее бедро и живот, становясь все настойчивей. – Моя королева, ты и вправду пожалела маленькую золотошвейку – теперь, думаю, можно называть ее так? Воистину, твоей щедрости нет предела! А ты не думаешь, что этот никчемный болван может напасть на девчонку – из злобы, от желания отомстить, и она попросту не доедет до Керна?
– Ну, мой милый Лео, она же поедет туда не одна! – Анастази вдруг откинула покрывало и быстро прильнула к нему. – В Керн отправляются Зейдек и несколько моих фрейлин. Я велела им… О, не так быстро, подожди… А оставлять ее здесь просто глупо… Ты видел, какие чудесные вещи она делает?..
Лео не ответил, мгновенно охмелев от ее наготы, от нежданной, счастливой возможности ласкать, облизывать груди, бедра и особенно те сокровенные части тела, о прикосновении к которым столь бесстыдно мечтал днем.
Целуя, играя язык с языком, торопливо распутывал завязки исподнего. Потом одним резким, неловким движением, через голову, сдернул сразу и котту, и нижнюю рубашку.
– Погоди… Единственное мгновение, моя королева…
Отстранился, чтобы снять оставшуюся одежду, досадуя на то, что, должно быть, выглядит нелепо – но, когда выпрямился, Анастази наблюдала за ним, и ее взгляд был полон восхищения.
Придвинулась к самому краю постели, медленно провела ладонями по его телу – от плеч, по груди, коснувшись локтей, а потом по животу и до самых бедер, чуть царапая ногтями:
– Прекрасен… О, как вовремя началась эта гроза… теперь я всегда буду любить непогоду!
Обвила руками его шею. Он снова сжал ее в объятиях, стараясь не торопиться – но разве можно долго сдерживаться, когда рядом с тобой желанная женщина? Анастази лишь тихо смеялась, уступая, выгибаясь, подставляя соски его поцелуям; прижималась так близко, что ощущала, как его член упирается в самый низ ее живота.
Лео подался вперед, подхватив чуть ниже бедра, тяжестью своего тела заставляя опрокинуться навзничь; ее ноги раздвинулись легко, словно бы без малейшего участия ее собственной воли.
Мокрое, манящее тепло женского лона; усилие, еще…
Ответом – короткие выдохи, едва сдерживаемые стоны. Она, жарко тающая, истомленная, позволяющая пользоваться собой как ему угодно – лишь бы не прерывать…
– Тише, – то и дело шептал он, касался пальцами ее горячего рта, а сам желал ее крика, который заставлял острее чувствовать наслаждение, но, несомненно, погубил бы их обоих.
В этот раз они обладали друг другом особенно страстно, нетерпеливо и алчно; переставлялись местами столько раз, сколько хотели. И вместе устали, и долго лежали, не разъединяя объятий, он – в ней, она – обняв его красивые плечи, запрокинув лицо к окну, задумчивая и счастливая. Лео с ленивой нежностью поглаживал ее согнутую в колене ногу.
Огонек стоящей на столе лучины все это время мерцал, дрожал пугливо, неверно, а потом угас совсем; заметив это, любовники только тихо рассмеялись.
– Позвать Альму?
Анастази уткнулась лицом ему в шею.
– «С любимым лежа, не боишься темноты» – так, кажется, поется?.. Чтобы видеть, как ты прекрасен, мне не нужен свет. Да и заставлять ее завидовать нашему счастью, по-моему, слишком жестоко, Лео.
…Прежде чем улечься, Альма еще раз тщательно проверила двери, задула свечу. Служанке было не до сна, она чутко прислушивалась к тому, что происходит в соседней комнатке. Пару раз пришлось встать и осторожно постучать в дверь, чтобы любовники вели себя потише – казалось, их возня, смешки и шепоты способны разбудить весь Тирбсте.
В остальном доме не раздавалось ни звука.
Будь Альма чуть спокойнее, она бы вполне могла услышать храп спящих в нижней комнате, у теплого еще очага, вальденбургских ратников, полусонное воркование голубей в стропилах под самой крышей, и много других, всегда непонятно-таинственных ночных шорохов. Но, стоя в темноте, краснея от стыда за чужое совокупление, совершавшееся будто у всех на виду, она вдруг словно взглянула на себя со стороны – испуганную, напряженную, с растрепанными волосами и в одной нижней рубашке. И чем же она занята, верная служанка королевы? Покрывает ее шашни с безродным менестрелем?!
…Ему пришлось убраться из теплой постели госпожи задолго до рассвета, растянуться на жесткой лавке в тесной и низкой каморке под самым скатом крыши, по которой все так же уныло барабанил дождь. Кровля прохудилась, вода капала на пол – тут и там на досках расплылись темные пятна. Пахло пылью, мокрым деревом и птичьим пометом. Лео задремал, положив голову на согнутую в локте руку и укрывшись плащом, как в давние времена, когда, кроме надетой на нем одежды, у него ничего и не было.
Одна ножка у лавки оказалась короче других, и глухо, сердито стукала в пол при любой попытке пошевелиться, а само ложе, отполированное сотнями прикасавшихся к нему ладоней и седалищ, опасно кренилось, словно недовольное тем, что его продолжают так бессовестно использовать и после того, как оттащили на чердак. Но зато Лео был здесь один, к тому же, поднимаясь по узкой деревянной лесенке, никого не встретил и мог надеяться, что о его ночном визите к королеве никто не узнает.
К утру дождь почти перестал, и лишь время от времени на крышу глухо и тяжело падали запоздалые капли. Раз в мутной еще, сырой тьме предрассветья послышались тихие шаги – то возвращались с тайного свидания влюбленные. Юноша что-то говорил, тихо, неразборчиво, девушка все больше молчала, но венцом беседы, как и принято в таких случаях, стал поцелуй.
…Все, что поется про непотребных девок и их умения – сущие глупости, которыми можно обмануть лишь юнцов да моих не слишком разборчивых собратьев-менестрелей, неспешно и утомленно думал Лео, на мгновение проснувшись от хриплого крика петуха под окном, и снова проваливаясь в дремоту. Что с них взять, если каждая третья стыдится показаться мужчине голой?..
ГЛАВА 9
«Коль говорю, так верьте мне:
Кто круглый год своей жене
Наряды дорогие шьет, не о себе печется:
Ему не выпал бы почет,
Что и чужого в свой черед
Нести крестить придется…» *
– Что за мерзкие стишки? Хоть и складные, даром что сочинил их, наверняка, какой-нибудь нищеброд, охальник и пьяница! Удо, поведай мне, с каких это пор королевский паж позволяет себе читать подобную дрянь?! Кто дал тебе эту записку?
– Простите, мой король! Песенку я услышал в Гюнттале, на празднике. Там же мне продали несколько таких листков. Стишки, разные занятные картинки…
– Представляю, что изображено на тех картинках! Дорого заплатил?..
Удо потупился. Видимо, цена для него была почти непомерной.
– Разве тебе не известно, юный неслух, что есть и другие песни, поприличнее?.. И есть поэты, коими воспеты подвиги героев и мудрость королей, а не приключения легкомысленных девиц да жадных до почестей проходимцев… И тебе не следует подхватывать всякую чушь, которая годится разве что для кабака!
Юноша слушал, уставившись в пол. Торнхельм, смягчившись, добавил:
– В мире много поэтов и певцов, куда более достойных внимания, Удо. Тот же Герхард фон Эрвель. У него можно услышать и о силе духа, помогающей преодолевать препятствия, и о тоске молодой женщины, возлюбленный которой отправился в далекие земли за ратной славой, верный данному обету, да и просто о счастье тихой, созерцательной жизни в уединении и ладу с миром! Разве может эта дрянь сравниться с его высоким искусством…
Торнхельм говорил совершенно искренне, ибо однажды ему довелось слушать фон Эрвеля при одном из княжеских дворов, и тогда король щедро вознаградил менестреля. Тот принял поощрение от короля с благодарностью и подобающим смирением. Ему, младшему сыну благородного рыцаря, обделенному наследством, каждая монета приходилась весьма кстати, хотя сам он никогда не требовал награды за свое мастерство, ибо слыл человеком гордым, даже сварливым.
И все же хорошо, что Ази была не слишком настойчива в своих просьбах пригласить его, сманив приличным содержанием и обещанием всеобщего почета, к вальденбургскому двору. Кто знает, о чем бы он стал петь, окажись здесь?
Злополучный листок все еще лежал под ладонью, и Торнхельм, сам не замечая того, медленно смял его.
– Дозволь мне сжечь его, мой король, – виновато прошептал Удо, но Торнхельм предостерегающе поднял руку.
– Королева, твоя извечная заступница, по-видимому, вернется в Вальденбург только завтра, когда утихнет гроза. Она заботится о тебе, называет милым юношей и самым верным из своих паладинов. Поверь мне, она не одобрит то, чем ты развлекаешься на досуге, которого, видимо, у тебя слишком много.
Удо был удручен до такой степени, что едва сдерживался, чтобы не расплакаться, и сейчас особенно бросалось в глаза, что он еще очень юн. Королю даже стало немного жаль пажа. Что ж, впредь будет наука, тем более что Анастази наверняка не станет судить своего любимца слишком уж сурово.
Торнхельм велел ему отправляться спать. За окном размеренно и докучливо шумел дождь, сгустившуюся в зале тьму разгоняло лишь неровное пламя в камине, и этой одинокой ночью сомнения пуще прежнего одолевали вальденбургского владыку.
Он давно чувствовал, что королеву мучает что-то, что она желала бы скрыть, но что проявлялось в мелочах – непривычной задумчивости, ответах невпопад, внезапной, словно лавина в горах, нежности. Однако она не считала возможным разделить с ним причины своей тревоги – только бесконечно целовала, гладила его лицо, плечи, руки, словно любуясь.
Умалчивает, а значит – не верит? Не надеется, что он сумеет помочь? Или, может, произошло что-то, о чем она просто не желает говорить? Впрочем, возможно, все это пустяки, глупые домыслы, и незачем выставлять себя легковерным и глупым ревнивцем…
Он представил, как пересказывает это недоразумение Анастази, почти услышал ее смех. Разве женщине можно запретить – пусть порхает, покуда ей нравится…
Ему и теперь было хорошо с ней почти так же, как во время медового месяца – в ее присутствии он оттаивал, становился разговорчив и весел. Видя его радость, Анастази тоже веселела, и к ней возвращалась легкость нрава. А едва она становилась такой, как прежде, Торнхельм отметал собственные тревожные предчувствия, с усмешкой думая, что, должно быть, это приближающаяся старость выкидывает такие шутки.
Что ж, королева еще молода, а ему, угрюмому затворнику, следовало бы понимать, что рано или поздно все это будет выглядеть именно так – и любой, кто мнит себя острословом, не упустит случая поупражняться в насмешках. А если слишком долго повторять нелепый слух, он становится весьма похож на правду.
Наконец дождь как будто перестал. Стало совсем тихо – лишь над башнями кружили ночные птицы, вскрикивали глухо, будто издалека.
Король сидел неподвижно, глядя в огонь.
Анастази вернулась из Тирбсте немного раньше полудня. Сразу заметила, что Торнхельм раздражен; насторожилась, не понимая, чем это вызвано.
– Звезды всего лишь раз успели сменить солнце, а я, возвращаясь в Вальденбург, нахожу в тебе такую перемену, мой возлюбленный супруг. Что произошло?
– Вот, изволь полюбопытствовать! – Торнхельм указал ей на лежащий на столе прямоугольник пергамента. – Что скажешь?
Анастази не спеша прочитала. Неприличный намек был весьма прозрачен, и королева почувствовала, как кровь приливает к щекам.
Небрежным, будто бы случайным движением она поднесла листок ближе к груди, чтобы стоявшая рядом Альма не могла ничего прочесть. Сам по себе похабный стишок ничего не значит, а волноваться – значит выдать себя…
Она не ведала, какая причина побудила Торнхельма показать ей это, а потому еще раз пробежала взглядом по строкам, вопросительно приподняла бровь, взглянула на мужа.
– Этот и некоторые другие стишки хорошо известны в небольших княжествах к югу от Рейна – там в большой чести беспутные стихоплеты. Иногда их вирши переписывают и продают на больших ярмарках, вроде леденской или стакезейской.